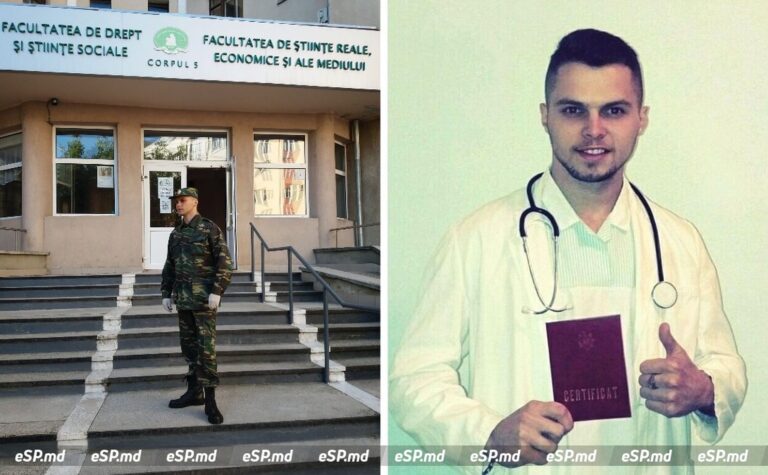В Кишиневе с 25 по 31 мая пройдет ежегодный международный фестиваль документального кино Cronograf. В программе — более 50 фильмов из 30 стран мира. Корреспондент NM ОЛЬГА ГНАТКОВА поговорила с директором фестиваля и главой Союза кинематографистов РМ ВИРДЖИЛИУ МЭРДЖИНЯНУ о том, зачем нужно смотреть документальное кино, как снять фильм за семь дней пути из Москвы во Владивосток и почему Молдова никак не может обрести свое лицо и свой путь.
«Нельзя просто поставить человека перед камерой и скомандовать — рассказывай»
Почему вы решили организовать в Молдове фестиваль именно документального кино?
Эта идея появилась 15 лет назад, когда еще молодая OWH Studio (Мэрджиняну — ее основатель и директор. — NM) начала снимать документальные фильмы. Для них нужно меньше финансовых и материальных ресурсов, чем для игровых картин. Первые документальные фильмы нашей студии: Murit pentru Madrid, Satul din oglinda, Rasaritul Baltilor — имели успех на международных фестивалях. Участвуя в этих фестивалях, мы подумали: почему бы не организовать что-то подобное в Молдове? Мы ездим и показываем свои фильмы в других странах. Было бы хорошо, чтобы и молдавские зрители смогли увидеть документальное кино, снятое за границей.
С таким посылом начали в 2001 году. Первый выпуск фестиваля Cronograf был наивным и, как любое начало, бедным. Хотя у нас уже тогда было международное жюри, фильмы из-за границы присылали на VHS-кассетах. Это был другой век.
Со временем фестиваль значительно вырос. О нас уже знают за границей, нам удалось интегрироваться в общее европейское фестивальное пространство. И не только европейское: в программе есть фильмы из Индии, Японии, Бразилии, Африки.
За последние 15 лет многое изменилось и в мире, и в кино. Критики с трудом проводят границу между документальным кино и fiction. Тем более, что уже не один год популярна документальная эстетика. Как вы для себя проводите эту границу?
Очень хороший вопрос. Действительно, за 15 лет фестиваля мы заметили определенную тенденцию в документальном кино: если раньше документалисты отталкивались только от реальных ситуаций и героев, то сейчас многие режиссеры выходят за границы документального кино и пытаются сочетать его с постановочными элементами. В прошлом году на открытии фестиваля был прекрасный пример такого подхода. В фильме Omul, care a salvat lumea главный герой, реальный человек, рассказывал настоящую историю, которую иллюстрировали постановочные сцены с участием профессиональных актеров. Фильм очень хорошо приняли.
Есть и другая тенденция. По крайней мере, по работам чешских режиссеров, традиционно успешных в документальном кино, я заметил, что и фильмы стали очень длинными, и снимают их долго. В одном из выпусков фестиваля мы показывали чешский фильм Marcela, который снимался 26 лет. Все это время режиссер следил за судьбой главного героя и в один момент решил: все, пора монтировать. И это не единичный случай.
Помню, в другой картине путь человека отслеживался с детства. Он вырос, его посадили в тюрьму на 10 лет. Режиссер все это время ждал его, а потом снял продолжение о том, как он реинтегрировался в общество, как развивались его отношения с семьей, родственниками и друзьями.
Как вы отбираете фильмы для фестиваля? Есть четкие критерии, или, может быть, мысли и идеи, которые хочется донести до зрителей?
С января по март мы получили больше 800 фильмов. В главном конкурсе участвует 51 картина и еще несколько десятков — вне конкурса. Думаю, что в первую очередь мы искали фильмы, тематика которых будет интересна молдавским зрителям. Мы не гнались за лауреатами фестивальных премий.
А что интересно нашим зрителям?
Взаимоотношения, взаимосвязь судьбы человека и судьбы страны, социальные проблемы — миграция, взаимодействие поколений. Мы не принимали пропагандистские фильмы, или ленты, в которых был расизм, и вообще старались быть дальше от политики. Старались искать фильмы с социальной тематикой, близкой людям.
Например, в программе этого года есть фильм «Плацкарт». Он был снят во время путешествия по самому длинному железнодорожному маршруту в мире — Москва-Владивосток. Поездка длится семь дней. Съемочная группа зашла в поезд в Москве и вышла во Владивостоке. По дороге они сняли десятки историй. За эту неделю люди успели подружиться, выпить вместе вина и водки, обсудить политику, культуру и социальные проблемы. И я подумал: насколько, оказывается, легко снять фильм всего за семь дней, в поезде.
Это знаменитый маршрут, многие иностранцы мечтают по нему проехать.
Да, по нему многие путешествуют. Но интересно, как из этого получилось кино. Сначала путешественники стеснялись камер, не соглашались сниматься. На второй день они подружились, на третий — рассказывали свои истории, на четвертый — плакали перед камерой, на пятый — рассуждали о том, что творится в стране. Эти взаимоотношения героев и режиссера документального фильма — его основа. Снимая документальное кино, нельзя просто поставить человека перед камерой и скомандовать: «Рассказывай». Суть в том, чтобы запечатлеть настоящую жизнь, в которой есть конкретный человек, конкретный населенный пункт или исторический момент.
Показывая эту реальность, может ли кино что-то в ней изменить?
Я думаю, да. Документальное кино может воспитывать общество. Я не преувеличиваю. Оно основывается на реальных историях. Именно поэтому после просмотра зритель анализирует увиденное, тем более что на фестивале мы даем возможность после каждого просмотра поговорить об этом с режиссером, героем или продюсером фильма. И задать им вопросы. Очень часто зрители спрашивают о судьбе главных героев после окончания съемок. И этот диалог остается где-то в подсознании и заставляет нас думать о том, как можно решить затронутые проблемы, и о том, как бы мы поступили на месте героев.
Документалистика помогает нравственному развитию общества, в том числе детей и подростков. Последние несколько лет мы проводим специальные показы для детей от 8 до 12 лет. Показываем короткометражки, касающиеся проблем детей, которые они потом обсуждают с учителями. Еще у нас есть секция для подростков Like pentru documentar с соответствующей тематикой: первая любовь, первые проблемы с родителями, первые бунты. Они проживают все это вместе с героями и даже иногда находят решение своих проблем.
Практически терапия.
Да, если хотите — это терапия, которую мы недооцениваем. Дети сами проходят через этот опыт: смотрят фильмы, обсуждают, делают выводы. Сейчас мы внедряем школьный проект: во время занятий дети вместе с преподавателем смотрят документальные фильмы и потом обсуждают. Влияние кино оказалось очень ощутимым — были и наглядные «результаты». Например, одни ребята убрали на территории школы и посадили деревья, другие сходили в мэрию и подали заявку на раскрашивание автобусных остановок в селах. Они увидели это на экране и захотели повторить в родном городе или селе. Впервые подумали: «Почему мы не можем это сделать? Ведь можем!».
Можно долго им надоедать — «сделай то и это», но когда они сами осознают что-то и сами решают сделать что-то, это совсем другое дело.
Как вам кажется, за 15 лет фестиваля зрители изменились?
Растет их число, это очень радует. Но нужно понимать, что простому зрителю сложнее прийти на документальный фильм: людям нравится художественный вымысел. Им хочется посмеяться, поудивляться и отдохнуть. На документальном фильме приходится думать: есть вопросы, на которые нужно искать ответы. Публика Cronograf не такая уж многочисленная, но образованная. Люди понимают, что такое документальное кино, готовы активно участвовать в обсуждениях.
Дискуссии с авторами — очень важная часть Cronograf. Режиссеры и авторы специально для этого приезжают из-за границы. Многие из них после сессий вопросов-ответов говорят, что зрители в Молдове хорошо подготовлены. Они задают осознанные вопросы, и даже если некоторые из них звучат провокационно, нередко это помогает развить дискуссию и коснуться важных тем.
«Мы оказались не готовы к демократии»
О молдавском кино сегодня говорить сложно. Но в Союзе кинематографистов, который вы недавно возглавили, около 200 человек. Кто все эти люди?
В Союзе кинематографистов, если можно так сказать, сейчас три поколения. Первое — те, кто работал на «Молдова-фильм», когда там производили сотни документальных и художественных фильмов в год. Там было почти 500 сотрудников, и это была очень хорошо поставленная индустрия.
К сожалению, на рубеже 1990-х годов она, как и многие отрасли, пришла в упадок из-за отсутствия финансирования. Большинство сотрудников стали безработными. Очень немногие из них смогли попасть в коммерческие или независимые проекты. Но они много сделали для молдавского кино, их работы — в архиве отечественного кинематографа, и они остаются членами Союза кинематографистов. И это очень важная его часть: их опыт может помочь в создании новых фильмов.
Второе поколение режиссеров училось профессии между 1990 и 2000 годами в Бухаресте, в Академии театра и кино. Это уже другая школа, так как предыдущее поколение, в основном, выпускники ВГИКа. А третье — новая волна отечественного кинематографа — училось в Кишиневе под руководством Влада Друка, который преподает уже больше 20 лет. Хочется думать, что скоро его работа начнет давать плоды. У них новая энергия и свежие силы. Это поколение, которое будет снимать фильмы в Молдове. Это и есть Союз кинематографистов: три поколения, которые, надеюсь, вместе возродят молдавский кинематограф.
Почему вы думаете, что это возможно?
После 20 лет отсутствия инвестиций в отечественный кинематограф, министерство культуры в этом году выделило на производство фильмов 6 млн леев. Это небольшая сумма, но я предпочитаю думать, что это хорошее начало. Кинематографисты должны быть готовы к тому, чтобы снимать фильмы. Надеюсь, что в будущем году на Cronograf будет больше отечественных работ.
Какие темы хотят и готовы поднимать молдавские режиссеры?
Не думаю, что есть узкий список тем. Спектр очень широкий. Все зависит от вкусов режиссера, его подготовки и видения. Можно судить даже по студентам: кто-то специализируется на художественных фильмах, кто-то — на коротком метре. Другие идут именно в документальное кино, третьи снимают экспериментальные фильмы.
В Румынии в середине 2000-х в кино сложилось целое направление — так называемая румынская «новая волна». Корнелиу Порумбою, Кристиан Муджиу и другие режиссеры осмысляли коммунистическое прошлое страны, революцию 1989 года. Почему у нас не возникает такой же потребности обдумать, в общем-то, схожий опыт?
Румынский кинематограф стал очень известен именно благодаря темам, которые он затрагивает — революция, Чаушеску, ситуация, в которой Румыния оказалась в 1990-е годы и позже, сложный переход к рыночной экономике. Это были табуированные прежде темы. В новом веке режиссеры смогли об этом рассказать и снять картины, интересные прежде всего Западной Европе. Мы прошли через схожий опыт, но он нам не кажется чем-то необычным. Мы привыкли. Там же режиссеры смогли найти способ с помощью искусства рассказать реальные истории. И они выиграли на этом: получили много премий в Каннах, на Берлинале и других европейских фестивалях класса «А».
Если говорить о молдавском кино, то, наверное, вы правы. Было бы хорошо, если бы молдавские режиссеры тоже подняли эти темы. И они уже их находят. Игорь Кобылянский, например, снял фильм Afacerea Est — о переходном периоде между советской и рыночной экономикой, когда многие начали заниматься бизнесом. При советской системе все было четко выстроено: у каждого была работа, были фабрики и заводы, все было понятно еще со школы. С одной стороны, никто не мог выйти за рамки, предложенные системой, с другой, в 1990 году мы оказались не готовы к демократии. Каждый стал занимался тем, что приходило в голову. Образовался хаос. И в этом хаосе многие заработали, многие все потеряли, многие разочаровались. Режиссеру удалось схватить и в комической форме отобразить реальную ситуацию.
Может быть, наше общество оказалось расколотым надвое именно потому, что часть общего опыта — и советского, и постсоветского — еще не осмыслена?
Не знаю, было ли население Румынии готово к переходу на рыночную экономику. Но переходный период у них оказался гораздо короче. Все дело в том, что они знали, куда идти, к какой системе стремиться, проводили более или менее болезненные реформы. Можно сказать, некоторые при этом пострадали, но в целом они пришли туда, куда шли. Можно вспомнить и прибалтийские страны, которые в 1990-х годах были на том же уровне, что и Молдова — Эстонию, Литву. Но они знали, чего хотят. Они были более подготовлены интеллектуально, чем материально. Наша главная проблема в том, что мы не определились, куда и зачем идем.
И, конечно, общество разделилось на множество категорий. Так нами легче управлять. Но так мы и не развиваемся, у нас нет своего лица. Мы разделены не только на прозападных и провосточных. Одни говорят на румынском и считают себя румынами, другие говорят на румынском и называют себя молдаванами, третьи — молдаванами, говорящими на молдавском и т.д. Мы еще не определились, кто мы как нация. В таком разделенном состоянии сложно идти вперед. Но мы пробуем. И вот эти проблемы и вопросы можно было бы поднимать в документальном кино.
В стране постоянно что-то происходит, но даже протесты мало что меняют. Может ли кинематограф в такой ситуации сказать свое слово?
Учитывая нашу ситуацию, думаю, культура и спорт — это области, которые объединяют людей. Когда мы выходим на марафон и бежим 10 км, то делаем это вместе, бежим дружно, радуемся результатам. Вместе мы наслаждаемся хорошим кино и концертом. Это пространство, которое соединяет людей, а не наоборот.
У каждого есть свои дела и потребности. Но у нас всех есть и общие задачи, которые нужно решать вместе. Вместе мы можем и город, и всю республику сделать красивыми. Но для этого нужно начать думать иначе. И тут могут помочь режиссеры своими фильмами, чтобы увидеть, что ситуации могут разрешаться иначе, что нужно менять стиль мышления. Если будем постоянно ругаться, жаловаться на проблемы и искать виноватых, так может пройти вся жизнь. Если каждый будет что-то делать, уверен, что вместе мы добьемся хороших результатов.
А все-таки, чтобы снимать фильмы, молдавские режиссеры могут прибегать к другим источникам финансирования, кроме госбюджета?
Конечно. Самый вероятный способ — совместное производство. Например, режиссер из Молдовы, продюсер из Румынии и оператор из России собираются в одну команду и снимают фильм. Такие картины получаются небанальными, потому что в них смешиваются разные взгляды. У этого фильма автоматически несколько рынков: Румыния, Молдова, Россия. Кроме того, каждая страна вкладывает в общий бюджет.
До сих пор мы не слишком часто пользовались этой возможностью, потому что не было денег для нашей «доли». Сейчас, надеюсь, будет возможность вносить свою лепту, и мы сможем прибегать к другим источникам финансирования.
Если бы у вас были деньги, чтобы прямо сейчас снять то, что вы хотите, о чем был бы фильм?
Если говорить о документальном фильме, то, конечно, хотелось бы снять что-то о Молдове. Через пять-десять лет нам будет интересно посмотреть со стороны на все происходящее, так, как сегодня мы смотрим на 1990-е. Фестиваль мы начнем, кстати, фильмами 1960-х годов, снятыми в Молдове.
То есть пока нет фильмов о сегодняшней Молдове?
За последние 20 лет, к сожалению, снято не более десятка фильмов, большинство из которых финансировались из-за границы, в том числе Nunta in Basarabia и Afacerea Est. Были и фильмы, снятые на деньги частных инвесторов из Молдовы, но таких фильмов единицы — Ce lumea minunata, Culorile. В 2018 году, надеюсь, у режиссеров уже не будет отговорок, что нет денег, и они смогут воспользоваться финансированием из госбюджета.
Вопрос уже только в качестве. Смысл в том, чтобы наши фильмы были востребованы на международных фестивалях и международном рынке. Чтобы мы могли гордиться, говоря: «Да, это фильмы молдавского производства».
Подробную программу фестиваля Cronograf можно узнать на сайте http://cronograf.md.