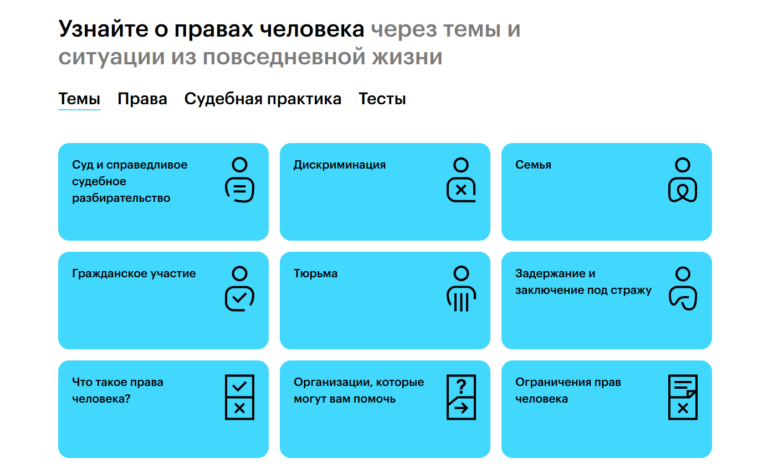Ольга Луковникова на днях стала первым режиссером из Молдовы, который получил премию «Золотой медведь» на Берлинском кинофестивале. Награду ей принес короткометражный документальный фильм о ее собственной семье и детстве Nanu Tudor (рум. «Дядя Тудор»). Одним из эпизодов рассказа о детстве стало сексуальное домогательство со стороны родного дяди. Девушке тогда было девять лет. Разговор с этим же дядей и стал основой фильма. В интервью NM Ольга Луковникова рассказала, почему решилась сделать эту историю публичной, как подготовка фильма изменила ее понимание произошедшего, и как фильм Nanu Tudor восприняла ее семья.
Трейлер фильма:
«На разговор с дядей я решилась только в последние дни съемки»
В какой момент ты поняла, что готова снять кино о себе, что это можно и нужно сделать? Раньше ты всегда снимала о других: писателях, людях, живущих в деревнях.
До этого я ни разу не делала кино о личном. Вообще не знала, что так можно. Но мой предыдущий фильм был об одном человеке из Бельгии. И он все-таки не разрешил мне так глубоко докопаться до его истории, как мне хотелось бы. Это вообще мой стиль работы: связать кино с психологией, через камеру изучать прошлое человека, докапываться до самых важных, иногда трагичных моментов его жизни.
И тогда я спросила себя: если я жду этого от остальных, могу ли дать это сама? Так я решила, что сначала должна сделать что-то о себе, и понять, насколько это тяжелый процесс — публично говорить о личном, чтобы потом делать фильмы о других людях.
Насколько история с дядей влияла на твою жизнь? Когда ты решила снять фильм о себе, сразу ли поняла, что там будет именно этот эпизод?
Во-первых, дядя и связанное с ним — это очень тяжелая тема, которая интерпретируется очень по-разному. Но вообще я бы не сказала, что фильм только о нем и связанной с ним истории. Он о моем детстве, в котором были и счастливые, и трагические моменты.
Фильм достаточно яркий, у него разное настроение. Он начинается как ностальгическое путешествие в детство. Главный элемент фильма — это дом. Фильм больше как раз о доме, обо мне и моих воспоминаниях, связанных с ним.
Почему фильм называется именем дяди? Потому что он основан на нашем диалоге. Я его спрашиваю, о чем он жалеет в жизни, что такое добро, что такое зло. Были эпизоды, которые я не смогла ему не столько простить, сколько понять их. Я хотела напрямую спросить его об этом.
И у вас получился достаточно откровенный разговор. Многие люди подобные вытесняют воспоминания. Насколько сложно была решиться на этот разговор с человеком, который и стал «источником» травмы? И какая реакция была у него?
Думаю, на эту историю могут «откликнуться» еще миллионы подобных. Оказывается, такое часто случается. Хотя я даже не знаю, какой термин в русском языке лучше использовать. Ведь если кто-то как-то не так тронул ребенка, это уже считается неадекватным поведением. Но могут быть и гораздо более жесткие формы.
Только в 1980-х годах начали говорить о child sexual abuse. Но этот термин тоже очень сложный. Даже эксгибиционизм — это уже child sexual abuse. Обычно мы все воспринимаем, как прямое насилие. А это не совсем насилие, потому что нет физических увечий. Поэтому мне сложно найти правильную терминологию. Приставание, может быть?
Но ты все это время понимала, что ваше общение выходило за рамки нормы взаимодействия взрослого человека и ребенка?
Я изучила очень много информации о том, как ребенок воспринимает неадекватное поведение взрослого. Ребенку очень сложно понять рамки дозволенного. Нам не объясняют, где взрослый может тебя трогать, а где нет. Детям очень сложно понять, что правильно, а что неправильно. Особенно, если речь идет о человеке, которому доверяют твои родственники и родители, примерном семьянине без вредных привычек, у которого есть авторитет в семье. Нас учат слушаться взрослых. То, что взрослые говорят — «это хорошо».
Поэтому только когда уже повзрослела, поняла, что что-то было неправильно. Описываемый в фильме случай произошел, когда мне было 9 лет. Тогда умер мой дедушка, а бабушка была в трауре. Она очень тяжело это переживала, была в депрессии. Родители переезжали в новую квартиру. И поэтому получилось так, что на лето я поехала с бабушкой в село. Все, как у всех детей: там была свобода, друзья. Когда все взрослые уходили на работу, я оставалась с дядей. Тогда он жаловался на боли в сердце. И мои родители ему доверяли, это же родственник. Ни у кого даже мысли не было, что что-то могло быть не так.
Гораздо позже, когда я начала понимать, что было что-то не так, я рассказала маме свои воспоминания, очень фрагментарные. Так происходит всегда, когда ребенок переживает травму: воспоминания стираются, это психологический защитный механизм. Поэтому я захотела узнать, что именно случилось, понять, почему.
Было сложно. На разговор с дядей я решилась только в последние дни съемки, когда увидела, что он уходит в огород и сидит там один. Мне казалось, что он о чем-то думает, может быть, хочет один на один что-то сказать мне. Тогда я решилась задать ему вопросы о моем детстве, помнит ли он, что он мне сделал что-то плохое. Так начался наш диалог.
«У этого поколения границы того, что плохо, а что хорошо, совсем другие»
Ты сама для себя пересмотрела эту историю в процессе съемок?
Я еще больше поняла, насколько дети беззащитны. И как отличаются люди из прошлых поколений.
Мой дядя был ребенком во время войны. Тогда были гораздо более масштабные проблемы. Тогда дети страдали от голода. Страшных историй было очень много. И вот у этого поколения границы того, что плохо, а что хорошо, совсем другие. Эти люди, возможно, даже не понимают, насколько их поведение может травмировать ребенка.
Я до сих пор не знаю, понимает ли дядя, насколько его поведение отразилось на мне. Он до конца пытался мне объяснить, что ничего плохого не случилось.
А ты сразу рассказала своей семье о том, что хочешь снять фильм о своем детстве, включая такие эпизоды? Как отреагировали родные?
Изначально я приехала в Молдову с идеей снять фильм о своем детстве в этом доме. Это дом, которому почти 100 лет, его построили мои прадедушка и прабабушка. Там все еще есть ковры, сделанные моей прабабушкой.
Раньше я с родственниками не обсуждала прошлое. Даже своим родителям недавно рассказала эту историю. Этот эпизод забылся. А потом начали всплывать фрагменты воспоминаний, непонятные для меня. И я уже думала, что фильм будет основан на теплой семейной встрече. Наша семья всегда была дружелюбной и сплоченной. И вот на таком фоне мы с папой обсуждали этот неприятный момент.
Позже, когда я решилась поговорить с дядей, я поняла, что вот это и есть фильм. Я никого не осуждаю. Я не вижу себя жертвой. Но я вижу жертвой того ребенка, которым я была. Ту девятилетнюю девочку, которая осталась одна с близким родственником, и который своим поведением ее травмировал.
Мы с дядей совершенно искренне разговаривали друг с другом. Он видел, что я записываю наш разговор, я ничего не прятала. Но только на следующий день он понял, что мне сказал. И тут ему стало страшно не то что за свою безопасность. Он испугался, что делом может заинтересоваться полиция. Но эти случаи очень сложно доказать, так что…
Вообще это дилемма всех документалистов, которые снимают о своей семье. Грубо говоря, это публичный разбор «грязного белья». Не было ли тебе страшно, что родные не поймут, осудят?
А они и не поняли меня. Они давили на меня, и продолжают это делать. Но я решила, что это моя личная история, и это мое право делать с ней, что я хочу. Я абсолютно ни на кого не держу зла. Но в то же время понимаю, что, если бы мои родители знали, что такие истории случаются даже в хороших семьях, со мной это могло бы и не произойти.
«Я хотела показать, что травмы получают не только дети в несчастных семьях»
Ты говоришь, что не чувствуешь себя жертвой. Но это тема, которая точно всплывет при обсуждении фильма — виктимизация. Сейчас поколение миллениалов часто обвиняют в том, что мы изнеженные, слишком сосредоточены на собственных травмах, слишком любим об этом говорить. Что ты об этом думаешь? Почему об этом стоит говорить, даже если, как ты сама сказала, ты не чувствуешь себя жертвой?
Я знаю, что это все равно сказывается на психике человека. Мы можем этого не осознавать. Может быть та же бессонница, кошмары. Такие травмы могут приводить и к гораздо более серьезным симптомам. Может дойти и до суицида. И, действительно, только разговаривая об этом, и поняв, что с тобой случилось, как это на тебя повлияло, ты можешь улучшить свою жизнь и жизнь других.
Наверное, отчасти верно, что мы зациклены на травмах. Мой следующий фильм будет тоже о межпоколенческой травме, о памяти о Второй мировой войне и о том, как она воздействует на нынешнее поколение. Есть какие-то паттерны, которые повторяются, и от которых надо избавляться, чтобы общество было более здоровым. А будущие поколения, наверное, более счастливыми.
А ты почувствовала то самое освобождение, когда закончила эту работу?
Сейчас достаточно сложно понять. Больнее всего — реакция семьи и их давление, их непонимание того, что я делаю. Мои родители, конечно, очень помогают мне через это проходить. Они поддерживают и понимают, что я делаю.
Но в то же время есть какой-то дуализм. С одной стороны, меня так понимают люди извне, мне дают премии. И ведь абсолютно не ради «давайте поможем этой жертве». Дают именно за то, как я об этом рассказала: это ведь абсолютно не черный фильм, он красочный, он разный. В то же время есть семья, которая пытается заставить меня молчать.
Я их, отчасти, понимаю. Это постсоветское общество. Раньше была жесткая цензура, фильмы пытались показать красивую сторону жизни. Но жизнь не всегда такая. И это надо учитывать.
Как ты вообще искала язык, на котором можно рассказать о таком сложном, противоречивом опыте детства? На что ориентировалась?
С самого начала я хотела показать, что травмы получают не только дети в несчастных семьях. Даже самые идеальные и правильные семьи иногда могут скрывать какие-то секреты. Для меня было очень важно акцентировать то, что я из хорошей семьи, у меня все дедушки и бабушки с высшим образованием. Это противоречит стереотипам.
Вдохновением для меня была режиссер из Голландии Алена ван дер Хорст. У нее есть русские корни, и в своем фильме она тоже поехала в дом своих бабушки и дедушки. Через текстуры, обшарпанные стены, она пытается говориться о прошлом. Ее фильм был о том, как сталинизм сказывается на современном, уже постсоветском поколении. Для меня эта работа был ориентиром в том, как я использовала язык кино.

«Только после позволения родственников я покажу фильм в Молдове»
Ты говорила о дуализме: вовне тебя очень оценили, а в семье трудности. А ты смогла бы показать этот фильм в Молдове? И как думаешь, какую реакцию он бы вызвал?
Я обещала некоторым родственникам, что в Молдове буду более скромна с этим фильмом. Они боятся, что это может задеть жизнь других членов семьи, которые только начинают путь во взрослую жизнь. Только после их позволения я покажу фильм в Молдове. Хотя, думаю, что эта тема важная.
По твоим ощущениям, насколько отличается восприятие таких вопросов в Брюсселе, где ты сейчас живешь, и в Кишиневе?
Конечно, это небо и земля. Тут лет 15 назад были очень громкие случаи насилия над детьми, дети погибли. После этого эта тема очень остро воспринимается. Даже если ты ударил ребенка по попе, и у него остался синяк и это кто-то замечает, на следующий день вызывают опеку, чтобы понять, в чем дело. Безопасность детей тут действительно на первом месте.
Поэтому люди очень открытые. Они понимают, что ребенок — это существо, которое только начинает свою жизнь, и еще не знает, что правильно и что нет. Им легко манипулировать, он беззащитен. Опасность может прийти, откуда угодно.
Как думаешь, смогла бы ты снять свой фильм, находясь в Молдове, живя тут постоянно? Хватило бы у тебя ресурсов, моральных сил?
Нет, конечно.
Почему?
Мне очень помогло то, что я была в Бельгии. Мне была нужна дистанция от того, что происходит в Молдове, и от моей семьи, чтобы более-менее иметь свободу самой анализировать ситуацию. Чтобы иметь возможность просто выключить телефон, и не находиться постоянно под прессингом родственников. Кроме того, конечно, очень помогли мои бельгийские преподаватели. Они были первыми, кто услышал, о чем я хочу сделать фильм, и смогли меня направить.
Да, в Молдове несколько наоборот: бывает, что фильмам отказывают в финансировании с комментарием «чему этот фильм научит молодежь», потому что в сценарии поднимались остросоциальные вопросы. Хорошо, что у тебя была поддержка.
Да, потому что мне до сих пор очень сложно из-за семьи. Сейчас я боюсь навредить своим еще маленьким родственникам. Это мой самый большой страх во всей этой истории.
Мне не страшно об этом говорить. И важно снова и снова подчеркивать именно то, что мой папа — мой лучший друг, мама меня очень любит. У меня очень хорошая семья. Не то чтобы меня оставили на произвол судьбы. Просто так случилось.
Ты собираешься вернуться в Молдову?
Мои родители сейчас в Испании. Кроме того, за Nanu Tudor я получила премию от Flanders Audiovisual Fund — €40 тыс. на производство следующего фильма. На то, чтобы сделать фильм, тут уходит четыре года, такой тут производственный цикл. Поэтому на следующие четыре года я связана с этой страной. Но я хочу, чтобы это было совместное производство Бельгии и Молдовы.
То есть следующий фильм — полный метр?
Да, я думаю, что закрыла тему с короткометражками. Как шутит мой папа, «ладно бы, взяла серебро, было бы к чему стремиться», а так достигла потолка.
Многие спрашивают — где и когда можно будет посмотреть Nanu Tudor?
Пока это сложно. Пока даже в Берлине фильм показали только для специалистов в области кино и жюри, на специальной платформе. Публике в Берлине его покажут только в июне. В этом году его будут показывать на фестивалях, и я не имею права нигде его публиковать. Мой продюсер в Бельгии планирует продать его бельгийскому телеканалу. И, если где-то поятится его «пиратская» версия, это будет невозможно.
Справка NM. Ольга Луковникова — документальный фотограф и режиссер, родилась в Молдове, сейчас живет в Бельгии. Изучала режиссуру в Академии музыки, театра и изобразительных искусств Молдовы, и документальное кино на мастерской программе DOC NOMADS в Бельгии. Один из первых ее короткометражных фильмов Nu te iubesc, moarte… (2015) получил премию на фестивале документального кино в Молдове Cronograf.