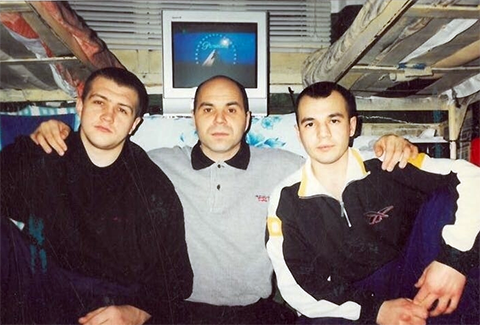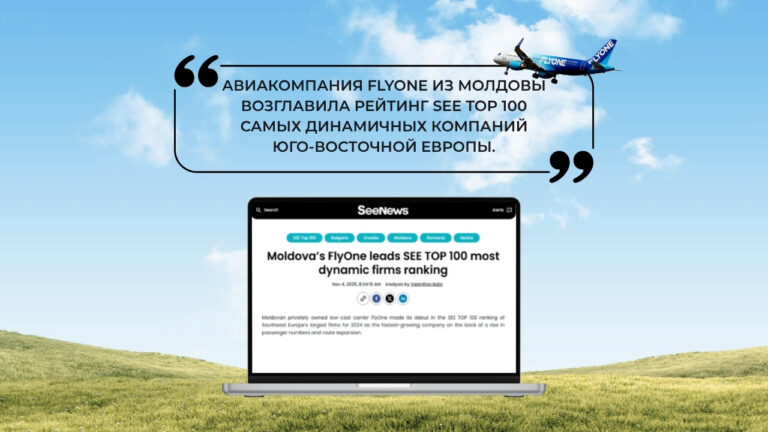Главной проблемой на пути Польши в ЕС эксперты и западные дипломаты часто называли коррупцию. Польский эксперт фонда имени Стефана Батория ГРАЖИНА КОПИНСКА рассказала НИКОЛАЮ ПАХОЛЬНИЦКОМУ о том, в каком виде в стране существует коррупция, как Польша с ней боролась, и объяснила, почему Польша, в отличие от Молдовы, достигла в этом большего успеха.
— В Молдове местные политики и европейские дипломаты часто приводят Польшу в пример, когда говорят о евроинтеграции страны. В Молдове сейчас главная проблема на пути в ЕС― коррупция. Существует ли такая проблема в Польше?
— Конечно. Я не знаю ни одной страны, где не было бы проблем с коррупцией. Польша не исключение, но за последние десять лет ситуация изменилась: очень снизилась бытовая коррупция. Речь идет, например, о случаях, когда дорожная полиция останавливает человека за превышение скорости, а он дает взятку в 200 злотых (около €50) и уходит безнаказанным. Уровень бытовой коррупции в Польше сейчас соизмерим с показателями других европейских стран, например с Германией, Францией. Однако у нас еще много проблем с коррупцией при расходах публичных денег, особенно при госзакупках. В прошлые годы в стране массово строили дороги, все очень спешили, чтобы успеть к Eвро-2012 (чемпионат Европы по футболу 2012 года, проходил на Украине и в Польше.— NM), и при расходовании госденег было много нарушений, несмотря на существующие процедуры. Но доказательств, что это была коррупция, нет. Мы можем только предположить. Например, много средств было потрачено на строительство шумоизоляционных заборов, чтобы заглушить шум с автобанов. Однако эти заборы были установлены и в тех местах, где не было населенных пунктов. Кто-то получил много денег за это.
Отдельная сложная тема ― контракты в IT-cекторе. Расходы очень большие, но профессионалов, которые смогут проверить все соглашения и контракты и объяснить, где суммы завышены, нет. Хотя, конечно, за последние годы уровень административной коррупции тоже значительно снизился.
— Но она все же существует?
— Все еще есть, но ситуация меняется.
— А где конкретно: в дорожной полиции, сфере здравоохранения, образовании?
— О дорожной полиции: в большинстве случаев водители теперь не взаимодействуют напрямую с сотрудниками. Были установлены фоторадары, водитель получает извещение, где и когда он нарушил, идет в банк и оплачивает штраф. Но есть другие ситуации, в которых возможно подкупить дорожного полицейского. Например, дальнобойщики: по правилам они не должны находиться в пути слишком долго, обязаны делать перерывы каждые четыре часа и регистрировать время остановки и отдыха. И, например, когда полицейский останавливает машину из России или Белоруссии, водитель которой долго ехал без отдыха, тот может попробовать дать взятку.
Другая ситуация в здравоохранении. Например, в госклиниках существуют очереди на операцию. Раньше люди просто шли в больницу, платили врачу — и перемещались в списке на первое место. Сейчас польские доктора обычно работают не только в государственных больницах, но и в частных клиниках. Многие там лечатся, официально все оплачивают. Но некоторые идут в частную клинику только на консультацию или несколько раз на прием к врачу. И после этого оказываются первыми в очереди на операцию, но уже в государственной больнице, где работает тот же врач, у которого они консультировались в частной клинике. И это не коррупция, потому что врачу напрямую деньги за операцию не платили. Но по факту человек купил себе место в очереди.
— А что насчет коррупции в судах? В Молдове, например, можно купить нужное решение, заплатив несколько тысяч евро. Или, если вы убийца, за взятку вам дадут минимальное наказание.
— Нет, у нас даже во времена коммунизма такого не было. Тогда судьи напрямую зависели от политиков: политбюро указывало, что должен делать судья. Может быть, такое и есть где-то, в очень-очень редких случаях в очень-очень маленьких городах, но я об этом никогда не слышала. Раньше могла быть коррупция в экономических судах, когда рассмотрение дела затягивалось на несколько лет и бизнесмены теряли деньги, ожидая решения суда. Тогда подкупали не судей, а клерков, для того чтобы дело оказалось первым в очереди. Такие ситуации были, но явных признаков коррупции в судебной системе у нас нет. Но у нас и больших проблем никогда не было.
— А сейчас судьи не зависят от политиков?
— Со стороны политиков на судей нет никакого давления. Но на них иногда давит общественность.
— То есть политики не могут позвонить и сказать судье, какое решение ему принимать.
— Нет, нет и нет. Проблема бывает в маленьких городах, на уровне прокуратуры. Обычно там мэры, прокуроры и полицейские хорошо знают друг друга — они соседи или коллеги по учебе. Случается, что прокурор часто не находит состава преступления.
— А в крупных городах типа Варшавы, Кракова это невозможно?
— Не могу сказать, что это невозможно, очень-очень редко такое происходит. Но местные власти и прокуроры все равно не общаются напрямую.
— Приезжающие в Молдову польские эксперты утверждают, что 25-30 лет назад взятки брали все. Как все менялось?
— Постепенно, шаг за шагом. Все началось с журналистов в конце 90-х. В это время расследовательская журналистика была очень популярна в Польше, главные газеты постоянно публиковали материалы о коррумпированных политиках, чиновниках всех уровней. В конце 90-х проснулось и гражданское общество: в 99-м году появился Transparency International (НПО, занимающееся борьбой с коррупцией) в Польше, наш фонд начал говорить об этом. То есть цепочка такая: журналисты―НПО―парламентарии, которые приняли законы, сфокусированные на борьбе с коррупцией.
Первые общие законы, ограничивающие коррупцию, появились в 1997 году. Правила по финансированию политиков, партий и избирательных кампаний появились в 2000 году. В 2001 году Польша начала процесс интеграции в ЕС. Тогда мы получили рекомендации от ЕС (наверное, такие же получает и Молдова) с указанием пробелов в законодательстве, с указаниями, где и что надо менять. Борьба с коррупцией значилась на первом или на втором месте.
— В Молдове уже пять лет ЕС говорит о коррупции, но ничего не меняется.
— Мы хотели присоединиться к ЕС, и мы должны были для этого что-то делать. Например, под давлением ЕС наше правительство в 2002 году подготовило первую антикоррупционную стратегию. В ней были взяты обязательства по изменению законов и установлению институтов борьбы с коррупцией. И шаг за шагом, благодаря давлению гражданского общества, ситуация изменилась.
— Но прогресс есть только в административной и бытовой коррупции?
— Нет, во многих областях. Например, в 90-х лоббисты могли прийти в министерства или к парламентариям и договориться, что должно быть написано в том или ином законе. Пример: один из бизнесменов в начале 90-х спонсировал всех сильных кандидатов на пост президента. После выборов власти поменяли законы так, что он стал монополистом на своем рынке — производства желатина. Сейчас это абсолютно невозможно.
— Почему?
— Процесс принятия законов намного прозрачнее. Новый законопроект с самого начала публикуется в интернете. Любой может посмотреть и оценить, где чей интерес. Также в парламенте все заседания парламентских комиссий есть в интернете, и любой может их посмотреть. Конечно, неофициально люди [лоббисты] могут встречаться с людьми из министерств в ресторанах, но это происходит редко, потому что были ситуации, когда полиция их арестовывала.
— В Молдове тоже есть журналистские расследования о воровстве публичных денег, у нас также законы выкладывают на обсуждение в интернет, заседание комиссий и парламента также доступно в онлайне, но это ничего не меняет. Политики воруют деньги, власть контролируется олигархами. Почему в Польше это работает, а в Молдове нет?
— Может быть, проблема во времени. Разница между Польшей и Молдовой в том, что у нас нет и никогда не было олигархов.
— У вас нет богатых людей?
— Нет. У нас есть богатые бизнесмены, но они не настолько богаты. По сравнению с русскими или украинскими олигархами они просто мелкие предприниматели. Если вы посмотрите на 500 богатейших людей Европы, вы не найдете там людей из Польши. У нас никогда не было олигархов. В 90-х такие люди были, но на многих из них были возбуждены уголовные дела. Или они просто уехали, потому что в стране стало сложно вести бизнес так, как они привыкли. Например, господин Кульчик (польский миллиардер Ян Кульчик.— NM): у него бизнес в Казахстане, Африке, офис в Вене, а в Польше почти нет бизнеса. И, кстати, политики, по сути, и не нуждаются в олигархах для финансирования партий и кампаний. Они получают деньги из бюджета, эти деньги контролируются. Идти к бизнесу или к мафии просто не нужно.
— Все партии получают деньги из бюджета?
— Те, кто на выборах получили свыше 3% голосов (избирательный порог — 5%).
— А сколько денег?
— Зависит от количества полученных голосов. Партия, набравшая наибольшее количество голосов, получает больше, чем та, что набрала 3%.
— Есть какая-то фиксированная сумма на каждый процент избирателей?
— Нет, и общую сумму сложно подсчитать. Выплачивают деньги в зависимости от количества избирателей и плюс возвращают деньги, потраченные на предвыборную кампанию. Правда, два года назад из-за кризиса объемы финансирования сократили вдвое. Но, насколько я помню, крупнейшая партия получала около 12 млн злотых в год (€3 млн).
— Политики в Польше не хотят быть богаче?
— Лично или для своих партий?
— Лично. В Молдове приходят во власть чаще для личного обогащения: построить дорогой дом, купить дорогую машину себе и своим близким.
— У нас тоже есть такие люди, чаще это представители местных властей в небольших городах. Но полиция работает, и Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ) тоже работает. Часто бывает так, что мэр побеждает на выборах и нанимает на работу друзей, членов семьи. Еще часто бывает такое, что компания заключает с муниципальными властями контракт, например, на какое-то строительство. И вдобавок строит еще что-то для мэра. Но чаще всего это кончается плохо — тюрьмой. Люди знают, что рано или поздно они могут оказаться в тюрьме — и чаще всего просто не рискуют.
— ЦАБ у вас независимо?
— Не совсем. Это проблема: наш ЦАБ подконтролен правительству, руководство назначает премьер-министр. Мы изначально говорили, что это плохое решение, глава ЦАБ должен утверждаться парламентом, правительством и президентом. Предыдущий руководитель ЦАБ был осужден за злоупотребление властью: он использовал свой пост для устранения политических конкурентов, поскольку сам был политиком. Нынешний руководитель не был замечен в делах такого рода.
— А что касается ментальности людей. Она изменилась за 10-15 лет?
— Да, согласно опросам общественного мнения, растет число людей, которые уверены, что никогда не будут вовлечены в коррупционные дела. Когда мы начали заниматься программами по борьбе с коррупцией, 13% людей открыто говорили, что давали взятку, сейчас таких 7%. Кроме того, снизилось число людей, считающих коррупцию главной проблемой Польши. В конце 90-х так думали 80%, сейчас ― около 50%. В 90-х коррупция была в тройке главных проблем, сейчас занимает седьмое-десятое место.
— А какая сейчас главная проблема?
— В прошлом году это была безработица.
— А можно ли честно устроиться на хорошо оплачиваемую публичную должность?
— Человеку с улицы тяжело выиграть конкурс ― но только потому, что это технически довольно сложно, не из-за коррупции. Хуже обстоит дело с госкомпаниями, где есть совет директоров. Члены партий часто избираются в управленческий совет муниципальных или национальных компаний и получают дополнительные деньги. А на уровне местных властей кумовство ― реальная проблема.