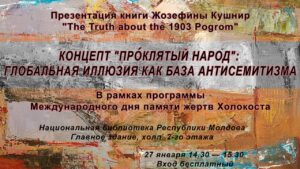20 ноября молдавские депутаты приняли решение о создании совместной комиссии парламента РМ и Народного собрания Гагаузии, которая призвана стать диалоговой площадкой, где Кишинев и Комрат попытаются решить задачи развития законодательства для обеспечения функционирования Гагаузской автономии.
Решение принималось не единогласно. А обсуждение данного вопроса в парламенте страны продемонстрировало, что даже депутаты (чего уж говорить о рядовых гражданах) откровенно «плавают» в вопросах, касающихся Гагаузской автономии, а также зачастую подвержены целому ряду предрассудков и фобий в отношении Гагаузии и гагаузов.
Парламентарий от Партии коммунистов Елена Боднаренко, к примеру, называла Гагаузию «автономной республикой в составе Республики Молдова». Вице-спикер от ЛДПМ Лилиана Палихович, со своей стороны, заявила, что в законодательстве РМ «нет Гагаузской автономии», а есть АТО Гагаузия. При этом аббревиатуру АТО она (как и ряд других депутатов) расшифровала как «административно-территориальное образование», в то время как в законодательстве речь идет об «автономно-территориальном образовании».
Депутат-либерал Лилиан Карп и вовсе заявил, что поскольку РМ — унитарное государство, то Гагаузия ничем не отличается от обычных районов страны. Более того, по его словам, прямой диалог между депутатами из Кишинева и Комрата «будет подпитывать сепаратизм в Гагаузии».
Как сама необходимость создания комиссии для разрешения противоречий между Кишиневом и Комратом, так и противоречивые, конфликтные, а порой и неграмотные выступления депутатов продемонстрировали, что «гагаузский вопрос» остается в значительной степени открытым и спустя 21 год после принятия в 1994 году закона об особом статусе Гагаузии.
Одна из основных причин такого положения дел — целый набор мифов, предрассудков и фобий сторон в отношении друг друга. Многие из них коренятся в событиях 20-25-летней давности и за прошедшее время лишь укрепились. И не разобравшись с этими «тенями прошлого», не проговорив и не развенчав эти мифы, едва ли стоит рассчитывать на полноценный доверительный диалог и по другим вопросам.
«Пятая колонна»
Одним из распространенных мифов является то, что гагаузы якобы всегда были «пятой колонной» Москвы и изначально выступали против независимости Республики Молдова. В действительности антисоветские и антикоммунистические настроения на территории нынешней Гагаузии в позднесоветское время были, пожалуй, даже более сильными, чем в Кишиневе и других регионах Молдовы, а гагаузских диссидентов активно преследовали органы госбезопасности.
На волне процессов демократизации в СССР в конце 80-х годов идеи национального возрождения массово охватили не только представителей титульной нации, но и этнических гагаузов, компактно проживавших на юге Молдовы. При этом на том этапе едва ли можно было говорить и о промосковских настроениях гагаузов. В рамках СССР, к примеру, у гагаузов никогда не было автономии, а их обращения на эту тему Москвой последовательно отметались, как и призывы обеспечить возможность получения образования на гагаузском языке.
Как и в Молдове, во главе гагаузского национального движения встали представители интеллигенции. Все началось с созданного в марте 1988 года дискуссионного клуба гагаузской интеллигенции «Гагауз Халкы» («Гагаузский народ»), который возглавил художник Дмитрий Савастин. Дискуссии о судьбах языка и культуры вскоре перетекли в политические требования об автономии. Подобные дискуссионные площадки и неформальные объединения появлялись во многих населенных пунктах юга Молдовы.
Требования южан, однако, встретили резко негативную реакцию со стороны националистических сил в Кишиневе, под фактическим контролем которых к тому времени находился Верховный совет МССР. Добившись придания молдавскому языку статуса государственного и перевода его на латинский алфавит, деятели молдавского национального возрождения отнюдь не собирались поддерживать схожие процессы в среде соотечественников-гагаузов.
Нельзя сказать, что в Гагаузии изначально были распространены антирумынские настроения. При этом не владеющие в большинстве своем румынским языком гагаузы испытывали обоснованные опасения относительно казавшегося тогда вполне реальным объединения с Румынией. А идеологи унионизма и национального возрождения не сделали ничего, чтобы развеять эти страхи. Более того, подпитывали их заявлениями о том, что гагаузы являются «чужими» и «пришлыми» на этой «румынской земле».
Политики-националисты из Кишинева, таким образом, упустили возможность сделать гагаузов своими союзниками в борьбе за отделение Молдовы от СССР или, по крайней мере, сохранить их лояльность. Своей этнократической, а порой и откровенно ксенофобской политикой, апофеозом которой стал «поход на Гагаузию» 1990 года, едва не приведший к масштабному межэтническому кровопролитию, они фактически своими руками отталкивали южан в объятия Москвы. И в Москве в дальнейшем этим, безусловно, пользовались.
Тем не менее депутаты молдавского Верховного совета из Гагаузии (Федор Ангели, Константин Таушанжи, Гавриил Франгу, Федор Маринов (Мариногло), Владимир Капанжи) в 1991 году проголосовали за Декларацию о независимости РМ. Об этом фундаментальном факте как-то не принято вспоминать в среде адептов идеи «гагаузской угрозы». Как и о том, что позже гагаузский язык вслед за молдавским был переведен с кириллицы на латиницу, что многие в Москве, к слову, до сих пор считают «предательством».
«Гагаузский сепаратизм»
Другим комплексным мифом о Гагаузии, бытующим в Кишиневе, является то, что гагаузам, мол, и так «незаслуженно» дали автономию, а они-де «неблагодарные» требуют все больше и больше. За этими требованиями также принято видеть «гагаузский сепаратизм» и их подспудное стремление «отделиться от Молдовы». Сюда же можно отнести идею «гагаузского федерализма» и «евразийских устремлений», якобы направленных «против Республики Молдова».
Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», наделяющий регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии, был принят парламентом Молдовы 23 декабря 1994 года. К лету 1995 года Гагаузия, которая с 1990 года существовала в режиме непризнанной независимой государственности по аналогии с Приднестровьем, была поэтапно интегрирована в состав Республики Молдова. Это явило один из немногочисленных примеров мирного урегулирования острых межнациональных конфликтов на пространстве бывшего СССР.
Разрешение конфликта стало результатом длительных и сложнейших переговоров, посредниками в которых выступали влиятельные политики мирового уровня, например тогдашний президент Турции Сулейман Демирель. Механизм урегулирования, зафиксированный в законе «Об особом правовом статусе Гагаузии», стал непростым компромиссом для обеих сторон: и в Кишиневе, и в Комрате были довольно влиятельны радикальные круги, выступавшие против любых уступок. Однако не без давления со стороны международных посредников обе стороны нашли политическую волю для того, чтобы преодолеть сопротивление радикалов и сделать шаги навстречу друг другу.
Эти же факторы, однако, обусловили и особую чувствительность «гагаузского вопроса», а также то, что любое отступление от духа и буквы достигнутого компромисса незамедлительно приводит к росту напряженности в отношениях Кишинева и Комрата. Принятое на законодательном уровне решение должно было быть имплементировано на практике. В рамках достигнутого между Кишиневом и Комратом «мирного соглашения» молдавским властям было предписано привести собственное законодательство в соответствие с законом «Об особом правовом статусе Гагаузии» и обеспечить функциональность автономии на уровне Конституции.
Этого сделано не было. Вплоть до 2003 года автономный статус Гагаузии вообще никак не был закреплен в Основном законе страны. 25 июля 2003 года парламент РМ частично закрепил существование Гагаузской автономии в ст. 110 и 111 Конституции. Решение, однако, было половинчатым. Конституционный суд к тому времени признал неконституционным и отменил ряд положений закона «Об особом правовом статусе Гагаузии». А развитие молдавского законодательства как до 2003 года, так и после происходило во многих случаях без учета положений закона о Гагаузии.
Любые попытки Комрата поставить вопрос о выполнении достигнутого соглашения встречали в Кишиневе обвинения в сепаратизме. Это приводило к накоплению противоречий и недоверия между сторонами, а также служило питательной почвой для роста популярности и радикализации антикишиневской риторики в Комрате. Там не без оснований считали, что Кишинев попросту обманул гагаузов: принял закон, который на практике никогда не собирался исполнять.
Росту недоверия способствовало и то, что гагаузы так и не были эффективно интегрированы ни в молдавское общество, ни тем более в управленческую элиту страны. 21 год, прошедший с момента принятия закона об особом статусе Гагаузии, был в этом смысле упущен. Более того, при отсутствии эффективного диалога между Кишиневом и Комратом проблемы и разногласия накапливались и усугублялись, а разрыв лишь увеличивался.
Это приводило к росту протестных настроений в регионе, которые были ориентированы против Кишинева. Причем независимо от того, кто находился у власти в Центре. В период правления коммунистов Гагаузия была самым антикоммунистическим регионом страны, а когда к власти пришли «проевропейские» партии, Комрат стал главным очагом «евразийских» настроений.
Небезызвестный референдум 2 февраля 2014 года о внешнеполитическом векторе, который в Кишиневе назвали «сепаратистским», не имел юридических последствий. Кто-то в этой связи счел его провокационным, кто-то бессмысленным. Тем не менее референдум выполнил свою главную и полезную функцию: привлечение внимания Кишинева и внешних партнеров к неразрешенным противоречиям между центром и автономией.
К счастью, у Кишинева хватило мудрости воздержаться от силового сценария подавления гагаузского референдума, что неизбежно привело бы к эскалации конфликта и превратило бы Гагаузию в «горячую точку» на карте Республики Молдова. Более того, молдавские власти предприняли ряд шагов по налаживанию диалога с Комратом. Как руководство страны, так и представители дипмиссий зачастили на юг. А представителей Гагаузии стали регулярно включать в состав молдавских делегаций, отправляющихся с визитами за рубеж.
Системная интеграция
Важнейшим символическим жестом для налаживания диалога между Кишиневом и Комратом стало присутствие 19 августа 2015 года тогдашнего премьер-министра РМ Валериу Стрельца на праздновании 25-й годовщины со дня провозглашения Гагаузской Республики. Стрелец стал первым молдавским руководителем, принявшим приглашение на празднование этой даты, которую в Кишиневе все эти 25 лет считали «сепаратистской».
На мероприятии Валериу Стрелец выступил с хорошо выверенной речью. Он призвал гагаузов «подвести черту» под разногласиями 25-летней давности и открыть новую страницу в отношениях с центром. Не отступив, по большому счету, от позиции Кишинева, он, однако, сумел завоевать симпатии гагаузской аудитории, неизбалованной вниманием Кишинева. Такого небольшого, но уважительного жеста внимания оказалось достаточно для того, чтобы не просто снизить эмоциональный накал вокруг противоречивой исторической даты, но и заложить основу для доверительного диалога.
«Выступление господина премьер-министра изменило ход моих мыслей сегодня»,— признался тогда первый и единственный президент Гагаузской Республики Степан Топал. «Если так пойдут дела, как было сказано в выступлении премьер-министра, то сегодняшний день станет поворотом в наших мыслях, в наших делах, в нашей жизни. Мы заждались этого, мы хотим этого. И поверьте, что Гагаузия будет для вас опорой в ваших делах для Молдовы»,— сказал он.
Ключевой проблемой, однако, по-прежнему остается доверие между сторонами. Даже в случае появления доброй воли с обеих сторон Кишиневу и Комрату предстоит приложить еще немало усилий для того, чтобы убедить партнеров в своей искренности. А главное — для преодоления взаимных предрассудков и мифов друг о друге. С этого, вероятно, и должен начинаться полноценный диалог тех, кто 25 лет смотрел друг на друга через оптику недоверия, противостояния и конфликта.
По словам экс-советника башкана Гагаузии Вячеслава Крачуна, тема Гагаузии и гагаузов оказалась очень благоприятна в плане появления различных домыслов и фобий в отношении этого южного региона. «»Гагаузы — это православные турки», «гагауз в переводе с турецкого — предатель», «гагаузы хотят отделиться от Молдовы» — это далеко не полный список заблуждений, которые мне приходилось слышать. Справедливости ради и многие гагаузы воспринимают молдаван не менее дикими образами»,— говорит эксперт.
Расстаться с этими стереотипами, по его мнению, можно только через рост взаимного доверия и информированности. «Все необходимые рычаги для того у государства имеются — система образования, общественное телевидение и т.д. Власть, увы, эти рычаги не использует. Но это не мешает гражданам действовать по собственной инициативе: практиковать национальный туризм и посещать Гагаузию, заводить знакомства, изучать историю»,— отметил Крачун.
В качестве примера эффективной политики инклюзивности он привел царскую Россию, где «гагаузы являли собой редчайший пример, когда представители нерусской национальности делали успешную военную карьеру, дослуживаясь до офицерских чинов». «Этот факт русский этнограф Валентин Мошков объяснил не только прирожденной расторопностью и смекалистостью гагаузов, столь важными для военной службы, но и их преданностью государству. Думаю, гагаузы с такой же преданностью относятся сегодня и к Молдове. Поэтому лучший способ избавиться от надуманных образов — максимально интегрировать представителей этого народа в управленческую элиту страны. Вопрос только в том, насколько в этом заинтересованы в Кишиневе?» — подвел итог эксперт.
Этот материал относится к циклу статей «Развитая автономия — Развитое государство», публикуемых в рамках проекта «Поддержка диалога между органами власти в Автономно-территориальном образовании Гагаузия», реализуемого «Пилигрим—Демо» при поддержке посольства Великобритании в Кишиневе и через Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности. Мнения, изложенные в данной статье, являются авторскими и не обязательно отражают точку зрения правительства Великобритании.

.JPG)
.JPG)
.JPG)