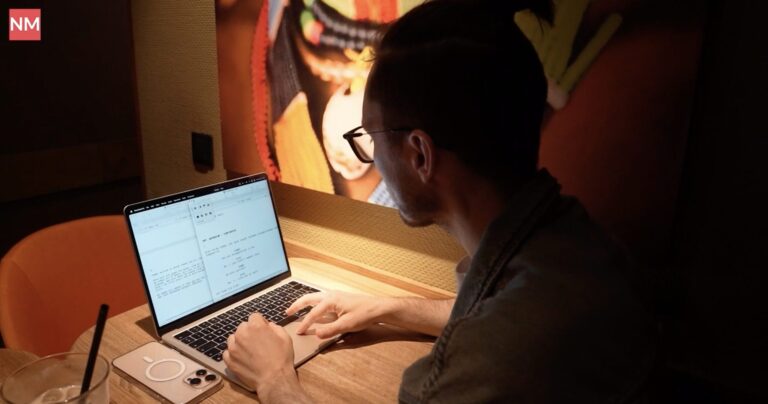«На войне очень сложно быть просто наблюдателем»
Интервью NM с Николае Пожогой, снимавшим Приднестровский конфликт
Минувшим летом в молдавском издательстве Cartier вышел «Album de război» («Военный альбом»): в нем собраны снимки фотокорреспондента Николая Пожоги, которые он сделал во время Приднестровского конфликта, работая на иностранные новостные агентства. Многие из них впервые печатаются в Молдове. В интервью NM фотограф рассказал, с чем столкнулся на передовой, почему солдат никогда нельзя спрашивать про страх и что не способны уловить никакие фотографии.
“
Сейчас началась вторая волна пересмотра тех событий
“
Сейчас началась вторая волна пересмотра тех событий
Почему именно сейчас, спустя 27 лет после Приднестровского конфликта, вы решили издать этот фотоальбом?
Знаете, если вы не говорите правду вовремя, со временем это превращается в «неправду». Так что тут получилось две правды — тогдашняя и нынешняя. Вовремя я тоже говорил, хотя снимки публиковали в основном за рубежом.
Сейчас те события интерпретируют уже совершенно иначе, особенно молодые люди. И политики по-своему перелопачивают.
Идея альбома возникла у издателя, а с ним спорить трудно. Я написал предисловие и там, как говорится, оттянулся. А в издательстве в основном сами собирали альбом.
Кроме того, я критично отношусь к своим работам. К тому же, и это самое печальное, очень многие из них по разным причинам утеряны. Получился импрессионизм.
Сейчас те события интерпретируют уже совершенно иначе, особенно молодые люди. И политики по-своему перелопачивают.
Идея альбома возникла у издателя, а с ним спорить трудно. Я написал предисловие и там, как говорится, оттянулся. А в издательстве в основном сами собирали альбом.
Кроме того, я критично отношусь к своим работам. К тому же, и это самое печальное, очень многие из них по разным причинам утеряны. Получился импрессионизм.
Идея была издателя, но какую задачу перед собой ставили вы?
Я старался не сильно это море волновать. Сейчас началась вторая волна пересмотра тех событий. Старался не давать слишком откровенных и жутких кадров. Это все уже история. Но я нашел кадры, которые тогда мне казались незначительными, а сейчас они наполняются смыслом. Это феномен времени.
Например, Вторая мировая война. Ее точки отсчета, нервные узлы — это определенные фотографии. Сотня или две. То есть по капризу истории это глобальное событие осталось в памяти в каких-то фотографиях, которые в принципе ничего не значат.
Для фотографа это, конечно, очень трудно и интересно. Вспомните Роберта Капу и его снимки высадки союзников на Омаха-Бич. Нерезкие кадры с солдатами в касках стали иконическими, о них самих сняли фильм. То есть все вдруг упирается в какой-то ничего не значащий снимок.
Со мной случалось так же. Скажем, я сделал снимок: Георге Гимпу [в апреле 1990 года] поднимает триколор над парламентом. Каким-то чудом я попал туда, хотя страшно боюсь высоты. Потом этот снимок где только не был. Он стал знаковой точкой того периода. Мы со студентами как-то были в Колонице. У местной школы эта фотография высечена в камне. Мне даже нехорошо стало, когда увидел.
И здесь то же самое. Некоторые снимки уже гуляют сами по себе и живут собственной жизнью.
Например, Вторая мировая война. Ее точки отсчета, нервные узлы — это определенные фотографии. Сотня или две. То есть по капризу истории это глобальное событие осталось в памяти в каких-то фотографиях, которые в принципе ничего не значат.
Для фотографа это, конечно, очень трудно и интересно. Вспомните Роберта Капу и его снимки высадки союзников на Омаха-Бич. Нерезкие кадры с солдатами в касках стали иконическими, о них самих сняли фильм. То есть все вдруг упирается в какой-то ничего не значащий снимок.
Со мной случалось так же. Скажем, я сделал снимок: Георге Гимпу [в апреле 1990 года] поднимает триколор над парламентом. Каким-то чудом я попал туда, хотя страшно боюсь высоты. Потом этот снимок где только не был. Он стал знаковой точкой того периода. Мы со студентами как-то были в Колонице. У местной школы эта фотография высечена в камне. Мне даже нехорошо стало, когда увидел.
И здесь то же самое. Некоторые снимки уже гуляют сами по себе и живут собственной жизнью.
К фотографиям в альбоме практически нет подписей — указаны только место, месяц, год. Иногда сложно понять, что на снимке: какая сторона, что происходит. Вы сделали это намеренно?
Это было трудное решение. Я преподаю фотожурналистику, и мой студент не получит оценку, если не будет нормальной подписи к фото. Но тут по некоторым соображениям я вынужден был так поступить.
Речь о том же: не вовремя сказанное — уже обман. Подписи, которые я мог бы сделать к некоторым снимкам, уже не актуальны и не отражают правды. Так работает время. Сегодня неэтично все это описывать. У тех людей по-разному сложились судьбы.
Мы долго обсуждали это с издателем. Я сознательно решил публиковать только снимки. И снабдить их подписями, которые ничего не значат: например, «май 1992». А что было в том мае?
Речь о том же: не вовремя сказанное — уже обман. Подписи, которые я мог бы сделать к некоторым снимкам, уже не актуальны и не отражают правды. Так работает время. Сегодня неэтично все это описывать. У тех людей по-разному сложились судьбы.
Мы долго обсуждали это с издателем. Я сознательно решил публиковать только снимки. И снабдить их подписями, которые ничего не значат: например, «май 1992». А что было в том мае?
“
Вопреки здравому смыслу они сидели в этих ужасных траншеях
“
Вопреки здравому смыслу они сидели в этих ужасных траншеях
Во время приднестровских событий вы были фотокорреспондентом. Не было страшно, когда поняли, что туда предстоит поехать? Не было ли желания отвертеться?
Многие об этом спрашивают. Нет, ничего такого.
Воспринимали просто как работу?
Трудно сказать. Что бросает военных корреспондентов сейчас на Донбасс и в другие горячие точки? Там можно умереть в три секунды. Это как пытаться пробежать между каплями дождя. Так было со мной и в Нагорном Карабахе, [куда я ездил во время военных событий], и здесь.
Это странное чувство. О нем сложно говорить. Все было как-то буднично. Получал пропуск. Это была такая игра на высоком уровне, через министерство.
Наверное, и возраст был бунтарский. Я помню свои ощущения там, [в зоне конфликта]. А здесь, [в Кишиневе], была обычная жизнь. И вот этот контраст «холодно-горячо» очень чувствовался.
Там были нормальные люди. Но вопреки всему: и здравому смыслу, и чувству самосохранения — они сидели в этих ужасных траншеях. Думаю, что подобное у нас никогда не повторится.
Что-то похожее вижу сейчас на Донбассе. Мои знакомые там работают, мы переписываемая. Точь-в-точь, только другой масштаб.
Там работает мой знакомый врач-парамедик. Он лечит всех раненых подряд — со стороны Донбасса и со стороны украинцев. И кошек, и старушек. Он так видит мир. Иногда только вспоминает: "Ах, президента переизбрали". Но в Киеве все совсем иначе. И это трудно объяснить. Журналистика не схватывает такие вещи, и я очень хорошо помню именно это ощущение.
Это странное чувство. О нем сложно говорить. Все было как-то буднично. Получал пропуск. Это была такая игра на высоком уровне, через министерство.
Наверное, и возраст был бунтарский. Я помню свои ощущения там, [в зоне конфликта]. А здесь, [в Кишиневе], была обычная жизнь. И вот этот контраст «холодно-горячо» очень чувствовался.
Там были нормальные люди. Но вопреки всему: и здравому смыслу, и чувству самосохранения — они сидели в этих ужасных траншеях. Думаю, что подобное у нас никогда не повторится.
Что-то похожее вижу сейчас на Донбассе. Мои знакомые там работают, мы переписываемая. Точь-в-точь, только другой масштаб.
Там работает мой знакомый врач-парамедик. Он лечит всех раненых подряд — со стороны Донбасса и со стороны украинцев. И кошек, и старушек. Он так видит мир. Иногда только вспоминает: "Ах, президента переизбрали". Но в Киеве все совсем иначе. И это трудно объяснить. Журналистика не схватывает такие вещи, и я очень хорошо помню именно это ощущение.
Когда вы находились в зоне конфликта, понимали, что происходит, кто против кого и зачем?
Конечно. Я работал тогда на иностранные агентства. Там очень серьезно относились к материалу — и к изображению, и к тексту. Помню прокол одного коллеги. Он как-то решил отправить вчерашний снимок, потому что в этот день не удалось ничего снять, а ситуация вокруг не изменилась. Из редакции во Франкфурте ему написали: «Почему вы говорите, что это сегодняшний снимок? Сегодня там пошел снег, а раньше его не было». Люди очень серьезно относятся к своей профессии, к тому, что именно мы называем «правдой».
И это стремление быть честным позволяет понимать, что происходит. Кто и что сказал, сколько, когда, почему. Без сентенций.
К тому же моторчиком служила скорость. Утром выехал, к обеду отснял, после обеда проявил, напечатал, подписал и отправил на телефото. Это такой «имейл», который вам и не снился. Помните у Булгакова, как подпись Степана Богдановича подтверждали? Это тот же самый аппарат.
И это стремление быть честным позволяет понимать, что происходит. Кто и что сказал, сколько, когда, почему. Без сентенций.
К тому же моторчиком служила скорость. Утром выехал, к обеду отснял, после обеда проявил, напечатал, подписал и отправил на телефото. Это такой «имейл», который вам и не снился. Помните у Булгакова, как подпись Степана Богдановича подтверждали? Это тот же самый аппарат.
А вы снимали на обеих сторонах баррикад?
У меня был очень хороший напарник — Сергей Воронин, с которым мы создали агентство «Аргус». Это замечательный, очень смелый фотограф. Мы вместе были и в Карабахе, и в Приднестровье.
Так вот тогда мы поделили «зоны влияния». У меня сильный акцент, сразу понимают, что человек не русский и — «а ну-ка, давайте поговорим…».
В Приднестровье я бывал только на официальных мероприятиях, куда пропускали группами. Иначе меня было очень просто вычислить, остановить и не дать работать. Такое лицо, что делать. В Карабахе со мной все говорили по-армянски, потому что внешне я похож на армянина. А я отвечал по-русски. Они ужасно обижались.
Так вот тогда мы поделили «зоны влияния». У меня сильный акцент, сразу понимают, что человек не русский и — «а ну-ка, давайте поговорим…».
В Приднестровье я бывал только на официальных мероприятиях, куда пропускали группами. Иначе меня было очень просто вычислить, остановить и не дать работать. Такое лицо, что делать. В Карабахе со мной все говорили по-армянски, потому что внешне я похож на армянина. А я отвечал по-русски. Они ужасно обижались.
И правда, «странно» — журналист с бородой и не говорит по-армянски.
Ну да, «вроде, наш». Я выучил только пару слов. Кстати, во время первого визита в Армению встретился там с католикосом. И он заговорил со мной по-румынски. Оказывается, он родился в Бухаресте. Это было событие!
Вы говорили, что сейчас восприятие приднестровских событий очень изменилось. А ваше собственное восприятие изменилось? Может, сместилось в какую-то сторону?
Думаю, не сместилось. Я старался и стараюсь быть непредвзятым. Сейчас меня другое смущает — люди не могут говорить. Комбатанты, волонтеры и с этой, и с другой стороны в принципе лишены голоса.
Почему и кем?
Давайте не будем гадать, кем. Но у них нет своего голоса. Ни здесь, ни на Левобережье. О последних я знаю мало, но чувствую, что там то же самое. Люди только объединяются в какие-то ассоциации.
А все топливо уходит на то, чтобы спорить: была это война или гражданская война. Это такой лингвистическо-антропологический спор. Это ужасно. Эти люди теряли своих родственников, их покалечили, остались кто без ног, кто без жилья.
И эта несправедливость поражает. Мне казалось тогда, и это очень наивно, что общество, государство ценят своих бойцов. Будучи под ружьем или присягой, нельзя понять, прав ли ты. И это не надо понимать. На войне двух логик не бывает… А сейчас всем кажется, что это и не должно было случиться. Тогда было иначе.
А если говорить о журналистах, то они иногда слабее духом, чем самые слабые из вовлеченных в конфликт. Да и не нужно иначе. Иначе было бы какое-то неприличное геройство. В том смысле, что ты, журналист, появляешься там как привидение.
А все топливо уходит на то, чтобы спорить: была это война или гражданская война. Это такой лингвистическо-антропологический спор. Это ужасно. Эти люди теряли своих родственников, их покалечили, остались кто без ног, кто без жилья.
И эта несправедливость поражает. Мне казалось тогда, и это очень наивно, что общество, государство ценят своих бойцов. Будучи под ружьем или присягой, нельзя понять, прав ли ты. И это не надо понимать. На войне двух логик не бывает… А сейчас всем кажется, что это и не должно было случиться. Тогда было иначе.
А если говорить о журналистах, то они иногда слабее духом, чем самые слабые из вовлеченных в конфликт. Да и не нужно иначе. Иначе было бы какое-то неприличное геройство. В том смысле, что ты, журналист, появляешься там как привидение.
Да, это вечный конфликт фотографов — смотришь, но не участвуешь. И наблюдаешь за тем, как кто-то погибает.
Это очень сложное чувство. Ты носишься с этими снимками, которые чаще всего не отражают сути. Чувствуешь, что это все не то. Это как в музыке: иногда слышишь, что человек не ту ноту взял, но он не останавливается и продолжает играть. Как фотограф ты чувствуешь, где получилось кокетство, а где сработал шаблон. Но все происходило очень быстро. Отбирать и отправлять кадры нужно было почти мгновенно. Бывали и ужасные ошибки.
Какие?
Самые страшные ошибки — залезть туда, куда нельзя. Я как-то увлекся в самые горячие дни в Бендерах. Мне говорят: «Хочешь туда? Пожалуйста». И завезли в город на БТРе. Даже было какое-то прикрытие. Но они уехали по своим делам, или забыли [обо мне], или ситуация изменилась.
Перестрелка была нешуточная. Попал в перекрестный огонь. И понял, что не надо было туда лезть. Ничего такого не привезешь, зато тебя привезут.
Тогда мы до всего доходили интуитивно — как искать образ события. Никакой школы подобных съемок у нас не было.
Перестрелка была нешуточная. Попал в перекрестный огонь. И понял, что не надо было туда лезть. Ничего такого не привезешь, зато тебя привезут.
Тогда мы до всего доходили интуитивно — как искать образ события. Никакой школы подобных съемок у нас не было.
Вы говорили, что для книги решили не брать самые жуткие снимки. Почему все-таки?
Смерть, разорванные внутренности и трупы никому не интересны. Даже журналистике не интересны. Но в альбоме все же есть два снимка с мертвыми. Один — в Бендерах, там убитый на лавке. Я оказался зажат рядом с ним. Даже спрятался под эту лавку, потому что все вокруг разрывалось. Рядом со мной тогда повалило дерево. Помню, как от какого-то взрыва рука погибшего свесилась с лавки. Но это я для себя снимал.
Есть еще снимок, сделанный в Кочиерах, на похоронах. Волонтер погиб, жена плачет. Это такой канонический подход к композиции. Теперь он мне не очень нравится, но тогда я помню: слышна перестрелка, люди провожают погибшего, и я там совершенно чужой.
Еще помню — на кладбище решили устроить почетный залп, вокруг было очень сильное напряжение. Я решил снять на большой скорости гильзу, чтобы как-то отвлечься. Потому что мое самое явное чувство было «я чужой».
Есть еще снимок, сделанный в Кочиерах, на похоронах. Волонтер погиб, жена плачет. Это такой канонический подход к композиции. Теперь он мне не очень нравится, но тогда я помню: слышна перестрелка, люди провожают погибшего, и я там совершенно чужой.
Еще помню — на кладбище решили устроить почетный залп, вокруг было очень сильное напряжение. Я решил снять на большой скорости гильзу, чтобы как-то отвлечься. Потому что мое самое явное чувство было «я чужой».
В любом конфликте, в том числе в приднестровском, у каждого своя правда. Как вам удавалось сохранять «баланс», не указывая — это «враги», а это «свои»?
У фотожурналистов два оружия — изображение и текст. С изображением все более или менее понятно. А вот с текстом… То, что существует правда, я узнал сразу. Из агентства, с которым я тогда работал, мне прислали файл с требованиями к подписям к фото. Надо было просто писать, кто, где, когда и что делает. И вот это освобождало от эмоционального желания принять чью-то сторону.
Конечно, у меня были свои эмоции. Но в профессии все решается быстро. А сегодня [в журналистике] видно, что люди не то что не обучены, но не придерживаются основных принципов [профессии]. Хотя я и тогда слышал от журналистов: «наши бойцы», «их бойцы». Это ужасно! И я считал себя в этом смысле очень продвинутым.
Конечно, у меня были свои эмоции. Но в профессии все решается быстро. А сегодня [в журналистике] видно, что люди не то что не обучены, но не придерживаются основных принципов [профессии]. Хотя я и тогда слышал от журналистов: «наши бойцы», «их бойцы». Это ужасно! И я считал себя в этом смысле очень продвинутым.
“
Ощущение войны не передать. Это словно и не земля
“
Ощущение войны не передать. Это словно и не земля
Если бы не профессия, вы бы участвовали в тех событиях? Многие ведь любыми способами старались избежать призыва.
Не знаю. В принципе я был призывного возраста, в резерве. Думал о том, что бы сделал, если бы меня призвали. И ответа не находил. Хотя это было не то место и не тот случай, чтобы затеять такую войну, чтобы призывали 40-летних. Все же я совершил одну ошибку, думал, так легче будет.
Я уже работал на министерство обороны, там была своя газета. Говорю — призовите меня, дайте форму, может, мне легче будет. Эта форма совершенно не помогла. Представьте, сколько глаз на тебя смотрят. Это была большая ошибка. Но вот так я учился на ходу. На третий день я отдал кому-то сапоги и прочее. Это большая глупость журналиста — так вовлечься.
Про призыв трудный вопрос. И тут речь не о малодушии. Я не мог быть своим среди бойцов. Человек другой. В то же время я не мог бы спокойно спать, если бы не был здесь. Встречался тогда в Кишиневе с фотографами, они говорили: «Я сегодня свадьбу снимал». Мы жили в разных измерениях.
Но у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Скорее всего, я был бы там. Места всем хватило бы. Помню себя ухаживающим за раненым, помню себя охваченным жутким страхом во время перестрелки, помню вечером за вином и анекдотами. Но есть такая вещь, как дистанция. Она помогает, хотя иногда и кажется, что мешает. Но я предпочитал многое не знать.
Во время любых военных действий на тебя обрушивается масса событий. Легко впасть в искушение и начать накапливать не ту информацию. Поэтому надо держать дистанцию. И сохранять баланс — не нырять слишком глубоко и не плыть по поверхности.
Знаете, на что похожи эти фотографии, если говорить об их актуальности? Снова пример из музыки. Концертный зал, симфонический оркестр, все прекрасно слышно, ты счастлив. Удаляешься. И что получается? Исчезают струнные. Отходишь еще чуть дальше — смолкают духовые. Уходишь совсем далеко — остаются одни барабаны. Так вот сейчас мы слышим одни барабаны.
Вот почему я не стал добавлять от себя скрипки и саму мелодию в этот альбом.
Я уже работал на министерство обороны, там была своя газета. Говорю — призовите меня, дайте форму, может, мне легче будет. Эта форма совершенно не помогла. Представьте, сколько глаз на тебя смотрят. Это была большая ошибка. Но вот так я учился на ходу. На третий день я отдал кому-то сапоги и прочее. Это большая глупость журналиста — так вовлечься.
Про призыв трудный вопрос. И тут речь не о малодушии. Я не мог быть своим среди бойцов. Человек другой. В то же время я не мог бы спокойно спать, если бы не был здесь. Встречался тогда в Кишиневе с фотографами, они говорили: «Я сегодня свадьбу снимал». Мы жили в разных измерениях.
Но у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Скорее всего, я был бы там. Места всем хватило бы. Помню себя ухаживающим за раненым, помню себя охваченным жутким страхом во время перестрелки, помню вечером за вином и анекдотами. Но есть такая вещь, как дистанция. Она помогает, хотя иногда и кажется, что мешает. Но я предпочитал многое не знать.
Во время любых военных действий на тебя обрушивается масса событий. Легко впасть в искушение и начать накапливать не ту информацию. Поэтому надо держать дистанцию. И сохранять баланс — не нырять слишком глубоко и не плыть по поверхности.
Знаете, на что похожи эти фотографии, если говорить об их актуальности? Снова пример из музыки. Концертный зал, симфонический оркестр, все прекрасно слышно, ты счастлив. Удаляешься. И что получается? Исчезают струнные. Отходишь еще чуть дальше — смолкают духовые. Уходишь совсем далеко — остаются одни барабаны. Так вот сейчас мы слышим одни барабаны.
Вот почему я не стал добавлять от себя скрипки и саму мелодию в этот альбом.
Мы упоминали о вновь возникшем недавно споре — это была гражданская война или не гражданская. Спор разгорелся, после того как министр иностранных дел так назвал приднестровский конфликт. Насколько этот спор имеет право на существование? И насколько министр поставил справедливый диагноз?
Мой друг из США Тайрон Шоу написал книгу о Молдове и скоро ее издаст. Я попросил его написать несколько слов к моему фотоальбому. Он написал. И написал там «гражданская война». Я говорю ему — у нас об этом спорят. А он отвечает — а у нас нет: «Все войны на территории США — суть гражданские. Независимо от того, вмешиваются ли внешние силы — русские или японцы, все это гражданские войны. Я буду так считать, хочешь — печатай, хочешь — нет». Вот так отрезал. Так и напечатали.
Хотя можно согласиться с тем, что это был гражданский конфликт сохранения независимости и правопорядка. Это была формулировка тех времен. У меня даже есть медали, на удостоверениях к которым эта формулировка. Но теперь это чистая политика.
Люди возмущаются, что войну с вовлечением 14-ой армии Лебедя, казаков, называют [гражданской] войной? Что от этого меняется? Интересно написал на эту тему Нантой. Кажется, у вас. Я ему говорю: «Оазу Георгевич, вы интересно пролили свет на этот вопрос, но я ничего не понял». А он говорит: «Я тоже».
Я бы не стал уходить от вопроса, но я не политик.
Хотя можно согласиться с тем, что это был гражданский конфликт сохранения независимости и правопорядка. Это была формулировка тех времен. У меня даже есть медали, на удостоверениях к которым эта формулировка. Но теперь это чистая политика.
Люди возмущаются, что войну с вовлечением 14-ой армии Лебедя, казаков, называют [гражданской] войной? Что от этого меняется? Интересно написал на эту тему Нантой. Кажется, у вас. Я ему говорю: «Оазу Георгевич, вы интересно пролили свет на этот вопрос, но я ничего не понял». А он говорит: «Я тоже».
Я бы не стал уходить от вопроса, но я не политик.
Но это ведь не только политика, речь о понимании истории и того, где мы сегодня находимся.
Но это ведь постоянно изменяется. Для меня более болезненно и важно — состояние выживших бойцов. Политики всегда будут гнуть свою линию. Я не собираюсь вступать в какую-то политическую партию. Но «гражданская война» — это вообще-то нонсенс, эти слова никак не сочетаются.
Но такой термин есть.
Да. Ну, давайте будем следовать логике моего друга, что это война на территории республики Молдова. Это и была война.
Есть искушение критиковать стороны, военное начальство. Но у меня недостаточно знаний, политического понимания момента. Меня больше интересуют человеческие судьбы, чем коллизии планетарного масштаба. Честное слово, это так.
Есть искушение критиковать стороны, военное начальство. Но у меня недостаточно знаний, политического понимания момента. Меня больше интересуют человеческие судьбы, чем коллизии планетарного масштаба. Честное слово, это так.
Возвращаясь к отсутствию подписей к фото. Люди и их судьбы на снимках оказались обезличенными — ни имен, ни сторон.
Осенью у меня начинаются курсы по фотожурналистике. Обычно говорю студентам: я знаю, что вы все лучше меня снимаете, у вас лучше аппараты, но меня интересуют подписи к снимкам.
Эта книга — не журналистика. Поэтому я и назвал ее «альбом». Просто фотокарточки. Но в этом есть скрытый смысл, о котором сейчас не хочу говорить — пусть люди помучаются.
Эта книга — не журналистика. Поэтому я и назвал ее «альбом». Просто фотокарточки. Но в этом есть скрытый смысл, о котором сейчас не хочу говорить — пусть люди помучаются.
Если подытожить ваш опыт и в Карабахе, и в Приднестровье — что вы для себя поняли о войне? Что такое война?
Это страшная нелепость, несправедливость. Это ужасно. И на войне очень сложно быть просто наблюдателем и думать: я журналист, меня спасут, я как-то проползу и донесу свои снимки. Война — очень страшная вещь.
К сожалению, снимки не могут это донести в полной мере. И словами плохо получается. А бойцам слова не дают. Полагаю, что общество не хочет об этом не то что говорить, а вникать в это всерьез. И когда я слышу — «мы отстоим свое право», я на животном уровне знаю, чем это закончится.
А там [во время военных действий]… уходит обычный страх и приходит какой-то другой. Страх страха что ли. Потому что понимаешь: как только тебе станет страшно — все, конец. Либо споткнешься, либо попадешь под снайперский огонь, либо кто-то тебя забудет в лесу или в горах.
Тот страх, который мы испытываем каждый день, типа «выключил ли я утюг» — это другое. Это беспокойство. А когда к тебе приходит первобытный, животный страх — это ужасно. Бойцы о страхе не говорят. И если кто-то и спрашивает, страшно ли тебе, ему не отвечают. Такое табу.
Ощущение войны не передать. Это словно и не земля. Дети росли, гуляли по траве и вдруг такое. Кино и фотографии редко когда это передают.
Я смотрел много фильмов о войне. Вот «Война» Алексея Балабанова. Там есть жуткие сцены, но вот страх не чувствуется. Потому что есть экран, есть я и кофе рядом. На войне все по-другому.
К сожалению, снимки не могут это донести в полной мере. И словами плохо получается. А бойцам слова не дают. Полагаю, что общество не хочет об этом не то что говорить, а вникать в это всерьез. И когда я слышу — «мы отстоим свое право», я на животном уровне знаю, чем это закончится.
А там [во время военных действий]… уходит обычный страх и приходит какой-то другой. Страх страха что ли. Потому что понимаешь: как только тебе станет страшно — все, конец. Либо споткнешься, либо попадешь под снайперский огонь, либо кто-то тебя забудет в лесу или в горах.
Тот страх, который мы испытываем каждый день, типа «выключил ли я утюг» — это другое. Это беспокойство. А когда к тебе приходит первобытный, животный страх — это ужасно. Бойцы о страхе не говорят. И если кто-то и спрашивает, страшно ли тебе, ему не отвечают. Такое табу.
Ощущение войны не передать. Это словно и не земля. Дети росли, гуляли по траве и вдруг такое. Кино и фотографии редко когда это передают.
Я смотрел много фильмов о войне. Вот «Война» Алексея Балабанова. Там есть жуткие сцены, но вот страх не чувствуется. Потому что есть экран, есть я и кофе рядом. На войне все по-другому.
Ощущение войны не передать. Это словно и не земля. Дети росли, гуляли по траве и вдруг такое. Кино и фотографии редко когда это передают.
Текст: Ольга Гнаткова
Оформление: Кристина Демиан
Главное фото: Максим Андреев, NewsMaker
Оформление: Кристина Демиан
Главное фото: Максим Андреев, NewsMaker