Спецпроект NM
Приднестровская травма
За что мы воевали на Днестре
Прошло 28 лет после приднестровского конфликта. Выстрелы на Днестре больше не звучат, но конфликт остается неурегулированным. Война не только забирает жизни, но и оставляет тех живых людей, кто воевал, вернулся домой и должен жить дальше в мирное время.
В Молдове о ветеранах все эти годы вспоминают нечасто, и в основном в период политических пертурбаций. Их пытаются то втянуть в политические игры, то сделать бизнес на их проблемах, то заткнуть рот подачками.
В 2020 году по Кишиневу прокатилась очередная волна протестов ветеранов, воевавших на Днестре в 1992 году. В обществе к ним неоднозначное отношение. И редко за камуфляжной формой, массовкой и лозунгами видят живых людей с их личными историями о войне, которая изменила их жизнь.
В новом спецпроекте NM решил откровенно и честно поговорить с реальными участниками конфликта. Кто эти люди? Чем они жили до войны? Что они пережили на войне и с чем вернулись домой? За что они сражались, и что они в итоге получили?
В Молдове о ветеранах все эти годы вспоминают нечасто, и в основном в период политических пертурбаций. Их пытаются то втянуть в политические игры, то сделать бизнес на их проблемах, то заткнуть рот подачками.
В 2020 году по Кишиневу прокатилась очередная волна протестов ветеранов, воевавших на Днестре в 1992 году. В обществе к ним неоднозначное отношение. И редко за камуфляжной формой, массовкой и лозунгами видят живых людей с их личными историями о войне, которая изменила их жизнь.
В новом спецпроекте NM решил откровенно и честно поговорить с реальными участниками конфликта. Кто эти люди? Чем они жили до войны? Что они пережили на войне и с чем вернулись домой? За что они сражались, и что они в итоге получили?
Дисклеймер. Изначально планировалось собрать в этом тексте истории участников конфликта с обоих берегов Днестра. Но пандемия коронавируса и карантин внесли свои коррективы. Возможности проведения съемок и интервью на территории Приднестровья в период действия карантинных ограничений у редакции NM нет. Но как только ограничения снимут, мы планируем записать и вторую часть проекта – истории участников боевых действий с левого берега Днестра.
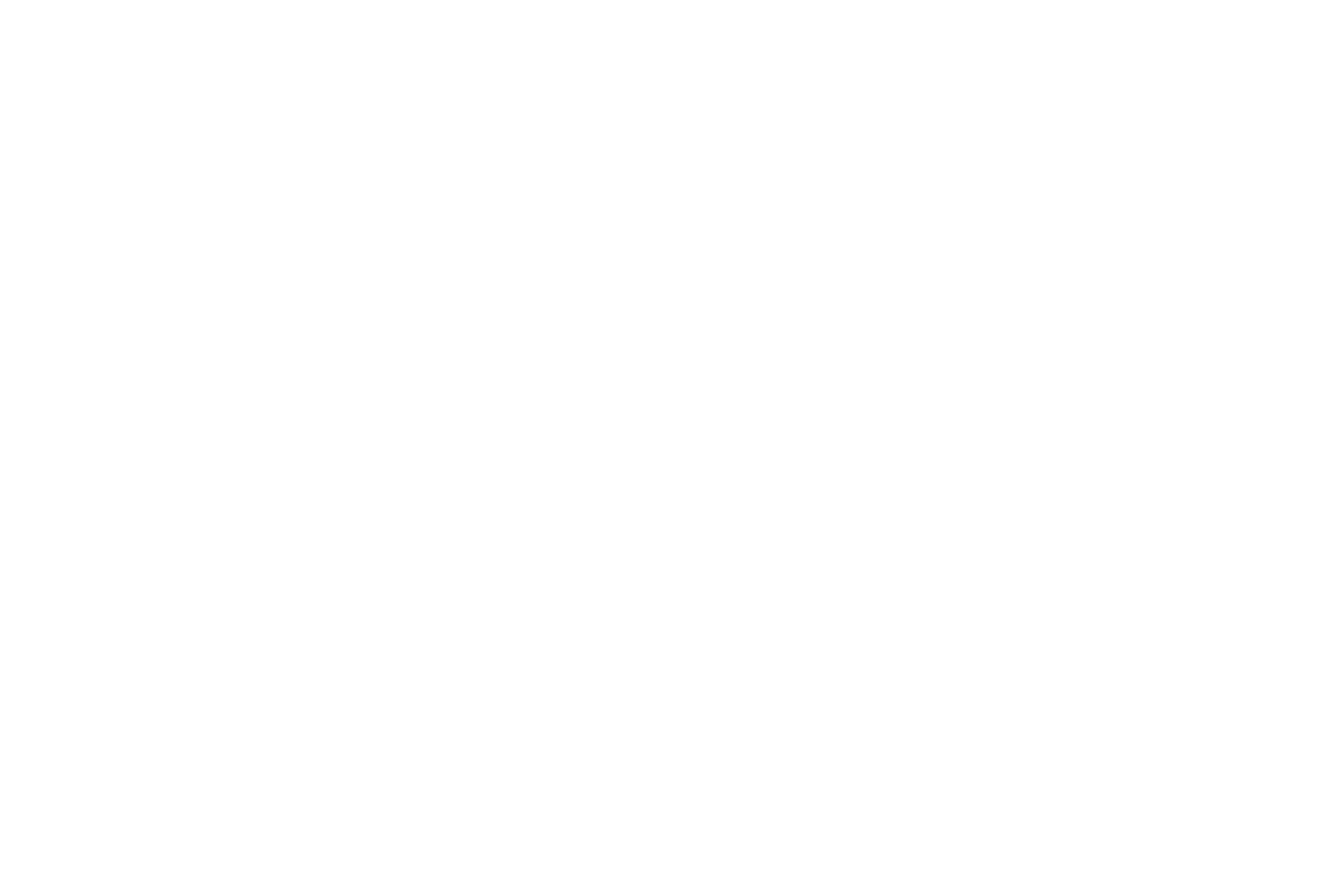
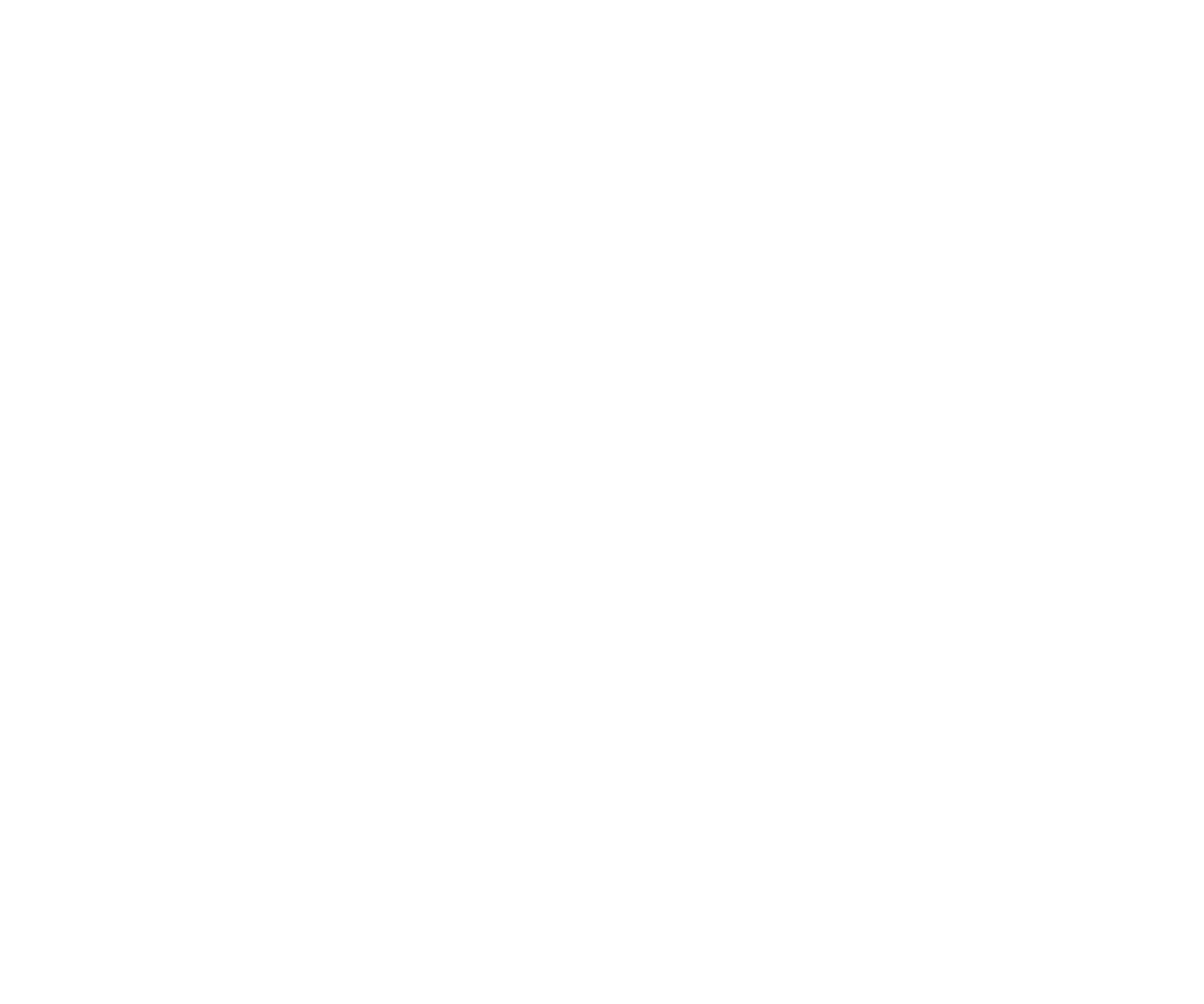
“
Так получилось, что я украл брата из Тирасполя
Тогда я только приехал из Афганистана. У меня был младший брат Виталик, на четыре года младше меня. Он служил в Тирасполе. Попал на срочную службу. У нас уже началось: «Limba noastra o comoara» [«Наш язык – наш клад нетленный...», первая строчка стихотворения Алексея Матеевича, которое стало гимном Республики Молдова]. [На улицах] начали драться. Я понял, что начнется какая-то заваруха. Брат не был в горячих точках, их мало чему учили – попадет в передрягу. Я взял мотоцикл и поехал к брату. Купил две бутылки «Букета Молдавии» и пошел к командиру части: «Так и так, у меня тут брат служит, я хочу с ним прогуляться по городу, дайте увольнительную». Дали увольнительную на четыре часа. Я поставил две бутылки «Букета Молдавии»: «Спасибо, до свидания». Мы вышли через КПП, усадил его на заднее сиденье мотоцикла, и говорю: «Держись, поедем домой, поедем к маме» [в Синешты, Унгенский район]. Так получилось, что я его украл. Отвез к маме, а после вернулся обратно и пошел прямо к министру обороны. Я ему говорю: «У нас начнется беспредел, заваруха, я не хочу, чтобы брата убили, как муху. Если что-то начнется, сам пойду вместо него, потому что я знаю, как пахнет порох». Они уже знали, что что-то будет. Это был 1990 год. Брату дали военный билет, он отслужил всего год, и его отправили в запас. Прошло несколько месяцев, и началось...
“
Ты сказал, что приедешь ко мне в гости, а пришел ко мне домой с автоматом
Перед войной я был женат, у меня была дочка. Жили на Чеканах, на 13 квадратных метрах в общежитии. Жене было хорошо, что я ушел [на войну]. Она завела любовника. После мы развелись. Мама, конечно, переживала. Я пошел на войну не из-за денег. Я пошел за своего брата, во-первых, во вторых – ребята были не обстреляны.
Мне было 24, когда началась война. Одежда еще пахла порохом из Афганистана. В то время работал в полиции, в 6-м батальоне, чеканский райотдел. Нас вызвали в районный отдел, это было утром. Сказали, чтобы мы оделись и обулись теплее, потому что в марте еще холодно. Нужно было взять из дома сухпаек – сало, колбасу, то, что не портится. В тот же день мы поехали в Вадул-луй-Водэ.
Все эти ребята – 385 человек, которые там были, из них только трое были бывшими «афганцами». Из этих троих только двое воевали, а другой был водителем КАМАЗа, «необстрелянный». Нам выдали [на войне] станковый противотанковый гранатомет, дали два СВД (снайперская винтовка), ПГ – подствольный гранатомет №7. Никто не знал, как этим пользоваться. Кроме пистолета Макарова, они ничего не знали. Всему этому я их учил. Из 385 человек, которые были в нашем батальоне, только девять человек погибли на этой войне, из них четверо погибли в бою, а пятеро по своей глупости. Кто на растяжку попал, кто гранату разбирал и подорвался. Даже в учебке дается 3% смертей из общего количества на несчастные случаи. А здесь война – и всего девять смертей. Почему так? Потому что был я и мой напарник [афганец]. Я был в одну смену, он – во вторую. Через две недели мы меняли друг друга. Если вдруг что, в зависимости от положения, оставались оба. Мы выкопали такие окопы, как надо было. Мы их не делали в одну линию – если в одну линию попадает мина, во всем окопе за две секунды не останется никого. Его нужно копать зигзагом. Многих мелочей ребята не знали. Не знали, как стрелять…
Нету на свете человека, который сказал бы: «Я был на войне и не боялся смерти». Все боятся. Хоть я и был в Афганистане, все равно думал: «Там не убили, а здесь могут грохнуть, потому что пуля-дура, у нее 9 грамм».
Многие ребята делали ошибки – выпивали иногда и на пьяную голову умирали. Мы как видели [алкоголь], сразу выливали. Гражданские приносили самогон, водку, вино, закуску. Алкоголь мы или забирали, или выливали прямо у них на глазах. Пьяный человек – считай неуправляемый. Мертвый человек.
Мне было 24, когда началась война. Одежда еще пахла порохом из Афганистана. В то время работал в полиции, в 6-м батальоне, чеканский райотдел. Нас вызвали в районный отдел, это было утром. Сказали, чтобы мы оделись и обулись теплее, потому что в марте еще холодно. Нужно было взять из дома сухпаек – сало, колбасу, то, что не портится. В тот же день мы поехали в Вадул-луй-Водэ.
Все эти ребята – 385 человек, которые там были, из них только трое были бывшими «афганцами». Из этих троих только двое воевали, а другой был водителем КАМАЗа, «необстрелянный». Нам выдали [на войне] станковый противотанковый гранатомет, дали два СВД (снайперская винтовка), ПГ – подствольный гранатомет №7. Никто не знал, как этим пользоваться. Кроме пистолета Макарова, они ничего не знали. Всему этому я их учил. Из 385 человек, которые были в нашем батальоне, только девять человек погибли на этой войне, из них четверо погибли в бою, а пятеро по своей глупости. Кто на растяжку попал, кто гранату разбирал и подорвался. Даже в учебке дается 3% смертей из общего количества на несчастные случаи. А здесь война – и всего девять смертей. Почему так? Потому что был я и мой напарник [афганец]. Я был в одну смену, он – во вторую. Через две недели мы меняли друг друга. Если вдруг что, в зависимости от положения, оставались оба. Мы выкопали такие окопы, как надо было. Мы их не делали в одну линию – если в одну линию попадает мина, во всем окопе за две секунды не останется никого. Его нужно копать зигзагом. Многих мелочей ребята не знали. Не знали, как стрелять…
Нету на свете человека, который сказал бы: «Я был на войне и не боялся смерти». Все боятся. Хоть я и был в Афганистане, все равно думал: «Там не убили, а здесь могут грохнуть, потому что пуля-дура, у нее 9 грамм».
Многие ребята делали ошибки – выпивали иногда и на пьяную голову умирали. Мы как видели [алкоголь], сразу выливали. Гражданские приносили самогон, водку, вино, закуску. Алкоголь мы или забирали, или выливали прямо у них на глазах. Пьяный человек – считай неуправляемый. Мертвый человек.
У меня в Афганистане был один [сослуживец] мордовец. Я был снайпером, а он наводчиком. Мы работали вдвоем – были, как братья. Он давал наводку, я после этого стрелял. После Афганистана он говорил мне: «Саша, я приеду к тебе, будем плавать в вине с девушками» – ну, так он мечтал. – «Хорошо, Ваня, приедешь – проблем не будет».
Проходит время, мы чисто случайно встретились на Приднестровской войне. Смотрю в бинокль, что-то знакомое лицо, только бородатое – он или нет, не знаю. У нас были переговоры с противниками. Переговоры вели офицеры, а у каждого офицера двое сопровождающих – два солдата, автоматы вниз, белый флаг в руках и шли посередине поля. Мы встретились, офицеры начали разговаривать. А я смотрю – «Ваня, это ты?!» – «Это я». Начали обниматься: «Что ты здесь ищешь?! Ты же сказал, что приедешь ко мне, будем купаться в вине с подругами, а ты пришел ко мне домой с автоматом. Что с тобой?». Он заплакал...
Я ему сказал: «Ваня, ты извини, пожалуйста, но, если попадешь мне на мушку, я жалеть не буду. Буду стрелять. Потому что здесь не твой дом». Он так помолчал, посмотрел… Больше я его не видел. Потом искал его в «Жди меня» – нету Вани, испарился. Нашел его сыновей. Они уже взрослые. Они его тоже не видели, после того как ушел на войну – потерялся без вести.
Проходит время, мы чисто случайно встретились на Приднестровской войне. Смотрю в бинокль, что-то знакомое лицо, только бородатое – он или нет, не знаю. У нас были переговоры с противниками. Переговоры вели офицеры, а у каждого офицера двое сопровождающих – два солдата, автоматы вниз, белый флаг в руках и шли посередине поля. Мы встретились, офицеры начали разговаривать. А я смотрю – «Ваня, это ты?!» – «Это я». Начали обниматься: «Что ты здесь ищешь?! Ты же сказал, что приедешь ко мне, будем купаться в вине с подругами, а ты пришел ко мне домой с автоматом. Что с тобой?». Он заплакал...
Я ему сказал: «Ваня, ты извини, пожалуйста, но, если попадешь мне на мушку, я жалеть не буду. Буду стрелять. Потому что здесь не твой дом». Он так помолчал, посмотрел… Больше я его не видел. Потом искал его в «Жди меня» – нету Вани, испарился. Нашел его сыновей. Они уже взрослые. Они его тоже не видели, после того как ушел на войну – потерялся без вести.
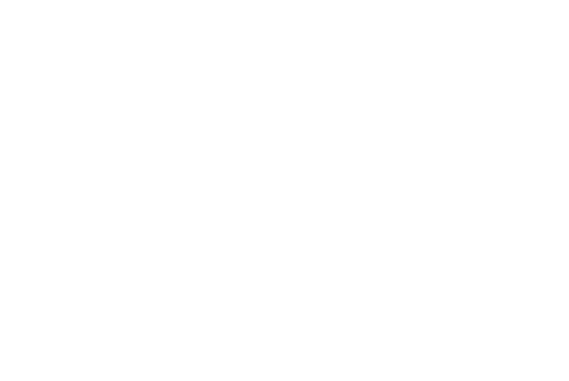
“
Она умерла и даже не почувствовала, что с ней случилось
Мы стояли на [линии] Дороцкая-Погребя. Ситуация обострилась, и вместо нас поставили волонтеров из районов. А мы сели на автобусы и приехали в Бендеры, прямо на маслозавод и завод «Тигина». Мы держали эти два завода в обороне. Они [гвардейцы] крутились вокруг, но боялись соваться. Не было у нас техники – только пару БТРов. БТР против танка это ничто, консервы. БТРы были старыми, «70-ки», еле дышали, так еще и на бензине. От одного трассирующего патрона можно было его подорвать. Бензин сразу загорается.
Самое страшное на войне – терять близких, самых близких людей. Мы остались живы только благодаря Лебедю [генерал Александр Лебедь – тогдашний командующий российской 14-й армией]. Я очень хорошо понимал, что такое 14-я армия. Если бы Лебедь захотел поднять 14-ю армию, эскадрилью самолетов, одну танковую роту, нас в течении 20 минут смешали бы с землей. Я имею в виду в Дороцкой-Погребя. Поднял бы технику – пришлось бы сразу копать могилы. Я же знаю, как вооружена российская армия, и как она воюет. Горела бы земля под нами, даже кости бы не нашли. Там у него «Ураганы», это 38 стволов. Если бы он пустил их по нашим позициям с фосфорными зарядами, – там на полметра вниз горела бы земля. Ни окоп, ничего бы не помогло. Поджарили бы, как тараканов.
Самое страшное на войне – терять близких, самых близких людей. Мы остались живы только благодаря Лебедю [генерал Александр Лебедь – тогдашний командующий российской 14-й армией]. Я очень хорошо понимал, что такое 14-я армия. Если бы Лебедь захотел поднять 14-ю армию, эскадрилью самолетов, одну танковую роту, нас в течении 20 минут смешали бы с землей. Я имею в виду в Дороцкой-Погребя. Поднял бы технику – пришлось бы сразу копать могилы. Я же знаю, как вооружена российская армия, и как она воюет. Горела бы земля под нами, даже кости бы не нашли. Там у него «Ураганы», это 38 стволов. Если бы он пустил их по нашим позициям с фосфорными зарядами, – там на полметра вниз горела бы земля. Ни окоп, ничего бы не помогло. Поджарили бы, как тараканов.
Была одна девушка, которая привозила нам еду – Маричика. Начали бить из минометов, и в нее попал крошечный осколок – в сонную артерию. До больницы не довезли, умерла. 18 лет ей было, такая красивая, смелая девушка была.
Когда потеряли эту девушку… сколько пацанов было – всем смог помочь, а ей не смог. Как умудрился этот осколок в нее попасть. Тем более она была в бронежилете… Она даже не почувствовала, что с ней случилось.
Никогда в жизни не мог представить, что у себя дома мне придется держать оружие в руках . Когда был в Афгане, думал – приеду, такая красота будет. Купил себе «Чезет», работал токарем, имел 750 рублей. Думал – начнется жизнь нормальная, поживу по-человечески. Как началась эта война, даже не думал, что буду стрелять в своего напарника. Он же тоже хороший парень.
Когда потеряли эту девушку… сколько пацанов было – всем смог помочь, а ей не смог. Как умудрился этот осколок в нее попасть. Тем более она была в бронежилете… Она даже не почувствовала, что с ней случилось.
Никогда в жизни не мог представить, что у себя дома мне придется держать оружие в руках . Когда был в Афгане, думал – приеду, такая красота будет. Купил себе «Чезет», работал токарем, имел 750 рублей. Думал – начнется жизнь нормальная, поживу по-человечески. Как началась эта война, даже не думал, что буду стрелять в своего напарника. Он же тоже хороший парень.
“
Ты был на двух войнах. Зачем начальнику такой дебил, как ты?
После войны… Устал я от этого. Сколько можно держать в руках автомат, убивать невинных людей? Нас используют, зачем? Я написал рапорт: «Извините, пожалуйста, но с сегодняшнего дня я не работаю». После этого проработал 19 лет проводником на поезде. Два года назад перешел в Термоэлектрику. Когда уволился с железной дороги, не мог найти работу. Я слесарь 4-го разряда, сварщик 4-го разряда, токарь 4-го разряда – а работу не найти. Нашел в одной фирме вакансию – бетономешалку ремонтировать. Попросили копию паспорта, военного билета – «Мы вас вызовем». Не вызвали. На автосервисе то же самое – не вызывают. Потом это произошло в третий раз, в четвертый, пятый. Один знакомый мне сказал: «Саня, никто не возьмет вас на работу. Ты был на двух войнах – ты подготовлен убивать людей. Зачем начальнику такой дебил, как ты?» А что, я дебил? Нас не считают людьми. [Считают], если он убивал людей, значит, что-то у него с головой не в порядке.
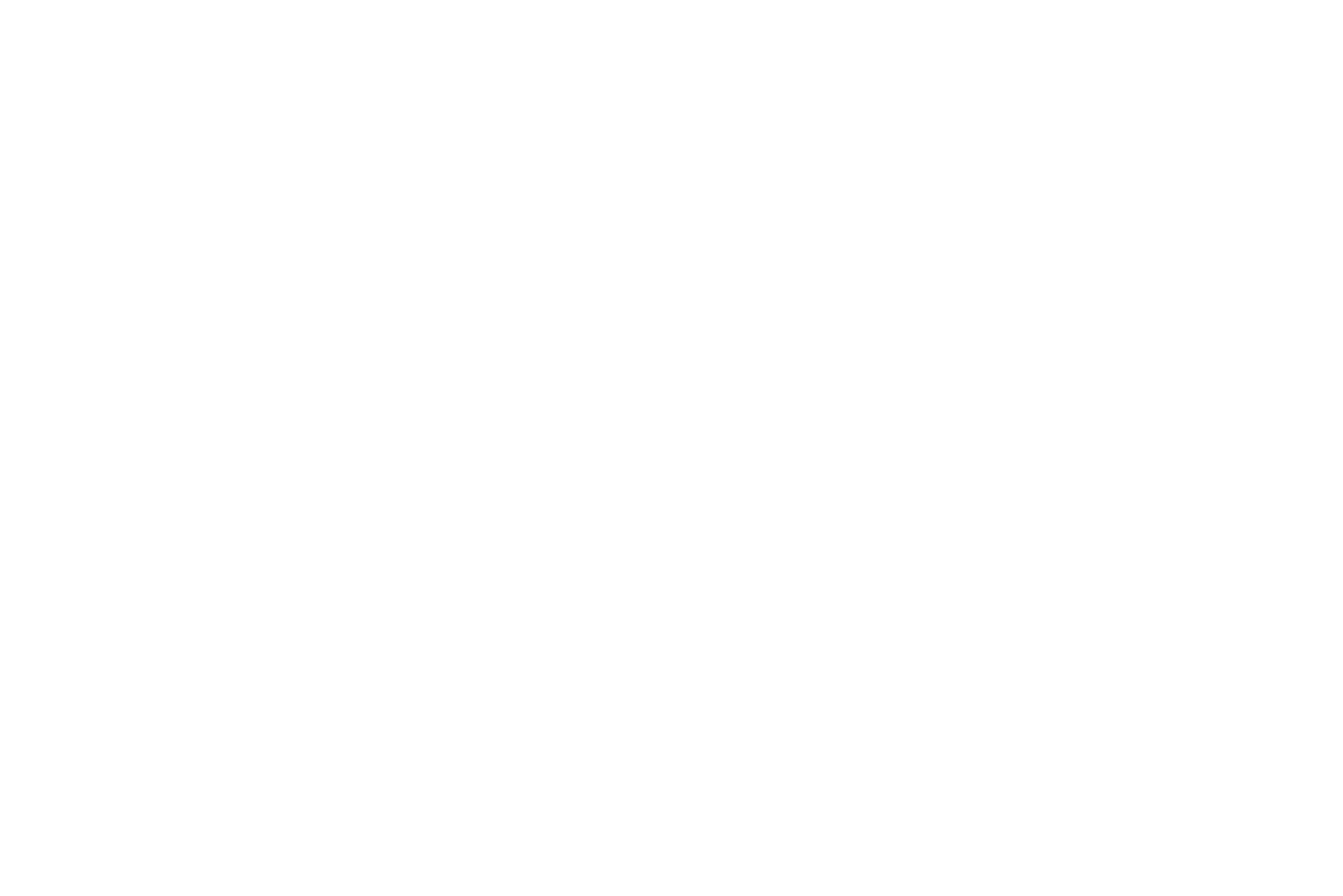
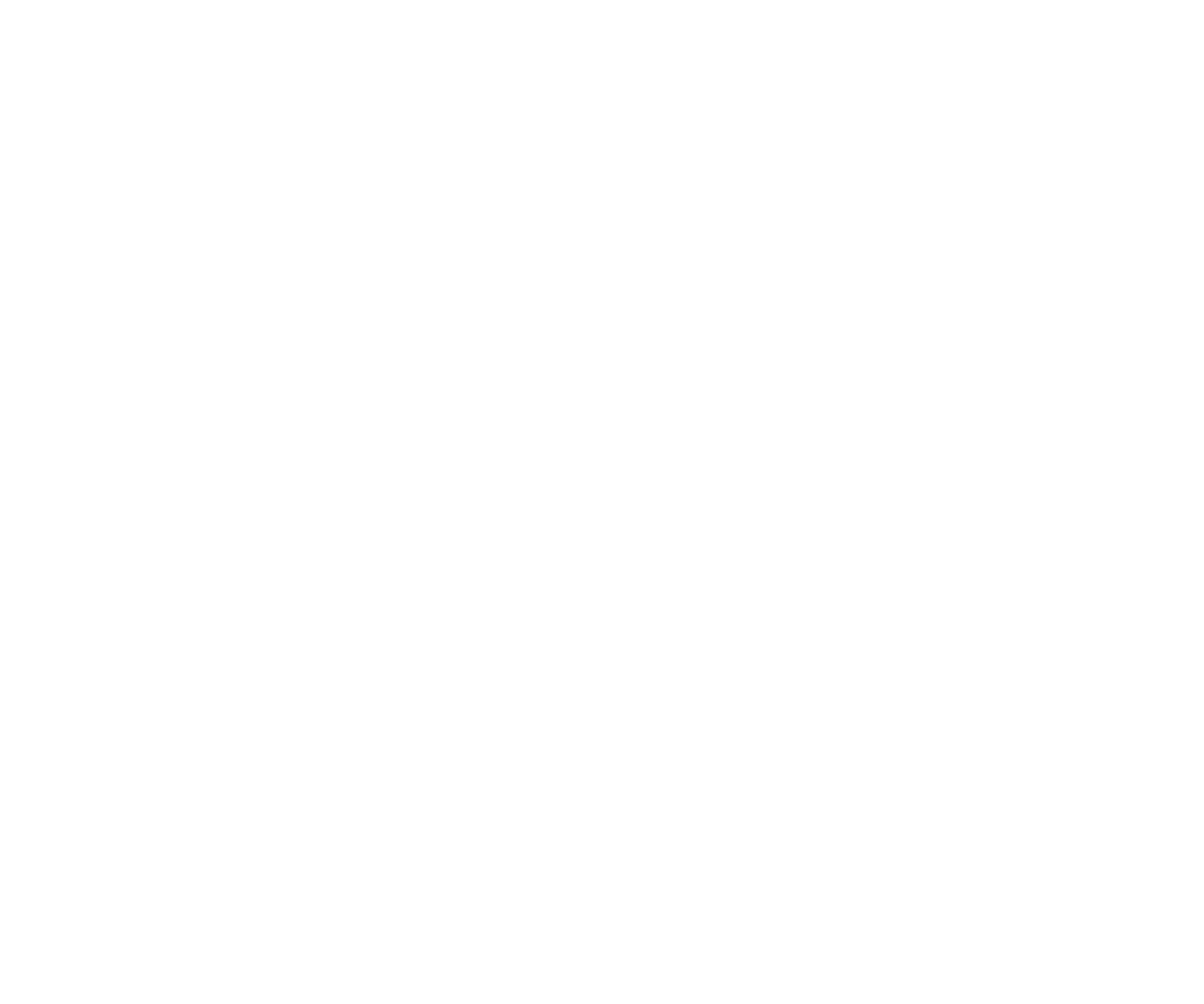
“
Я воевал за независимость. Но и с той стороны воевали за это же
После Афганистана я вернулся в университет. Учился на историка. Говорили: «КГУ [Кишиневский госуниверситет, сейчас - Молдавский государственный университет] готовит бойцов идеологического фронта».
То, что мы видели и делали там [в Афганистане], и то, что говорила официальная пропаганда, - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Я видел жизнь с другой стороны.
Ребята говорили, что после Афгана я странный. Например, сидели дружной студенческой группой, пекли картошку на костре, вдруг встает картина перед глазами и сразу уходишь в сторону. Со временем многие вещи переосмысливаются.
На пятом курсе мне предложили работу. Еще шла перестройка, все переосмысливалось, переоформлялось. Предложили быть секретарем комсомольской организации на «Стяуа Рошие».
У меня тогда была девчонка, которая училась в Беларуси. Галя, она была из Брянска, но училась в Могилеве. Мы с ней случайно встретились на сельхозработах в 1987 году, в Красном, под Тирасполем, на консервном заводе. Познакомились с ней, влюбился – во многом благодаря ей я не спился, потому что после Афгана многие пили, курили. Курить я не курил, в Афгане пробовал, но тут нет. Но иногда бывало так, что свет не хочешь видеть. Наверное, [не спился] благодаря Гале – это сыграло роль.
Тогда начиналась волна национального возрождения. Мы с Галей много говорили. Я для себя решил, что в Белоруссию или Россию не поеду. Ей нужно было еще год учиться, а я решил остаться в Кишиневе. Мы не поженились. В принципе, был виноват я, но, наверное, не судьба. Но я благодарен – воспоминания самые-самые теплые.
Проработал на «Стяуа Рошие» полтора года. В январе 1991 года начал работать в полиции. Тогда только организовывали бригаду специального назначения (ОПОН). Прообразом был ОМОН Панфилова [Владимир Панфилов – командир первого отряда ОМОНа МССР], и в верхах тоже думали после случая с рижским ОМОНом, что лучше организовать специальный батальон. Официально он назывался «Первый отдельный батальон патрульно-постовой службы МВД МССР». Гамурарь там был комбатом, Пакалев начальником штаба, ротный – Бурдиян Алек, мы с ним с факультета знались. Он меня сагитировал: «Давай, нам нужны офицеры с боевым опытом, с хорошей подготовкой». Так я попал в полицию.
То, что мы видели и делали там [в Афганистане], и то, что говорила официальная пропаганда, - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Я видел жизнь с другой стороны.
Ребята говорили, что после Афгана я странный. Например, сидели дружной студенческой группой, пекли картошку на костре, вдруг встает картина перед глазами и сразу уходишь в сторону. Со временем многие вещи переосмысливаются.
На пятом курсе мне предложили работу. Еще шла перестройка, все переосмысливалось, переоформлялось. Предложили быть секретарем комсомольской организации на «Стяуа Рошие».
У меня тогда была девчонка, которая училась в Беларуси. Галя, она была из Брянска, но училась в Могилеве. Мы с ней случайно встретились на сельхозработах в 1987 году, в Красном, под Тирасполем, на консервном заводе. Познакомились с ней, влюбился – во многом благодаря ей я не спился, потому что после Афгана многие пили, курили. Курить я не курил, в Афгане пробовал, но тут нет. Но иногда бывало так, что свет не хочешь видеть. Наверное, [не спился] благодаря Гале – это сыграло роль.
Тогда начиналась волна национального возрождения. Мы с Галей много говорили. Я для себя решил, что в Белоруссию или Россию не поеду. Ей нужно было еще год учиться, а я решил остаться в Кишиневе. Мы не поженились. В принципе, был виноват я, но, наверное, не судьба. Но я благодарен – воспоминания самые-самые теплые.
Проработал на «Стяуа Рошие» полтора года. В январе 1991 года начал работать в полиции. Тогда только организовывали бригаду специального назначения (ОПОН). Прообразом был ОМОН Панфилова [Владимир Панфилов – командир первого отряда ОМОНа МССР], и в верхах тоже думали после случая с рижским ОМОНом, что лучше организовать специальный батальон. Официально он назывался «Первый отдельный батальон патрульно-постовой службы МВД МССР». Гамурарь там был комбатом, Пакалев начальником штаба, ротный – Бурдиян Алек, мы с ним с факультета знались. Он меня сагитировал: «Давай, нам нужны офицеры с боевым опытом, с хорошей подготовкой». Так я попал в полицию.
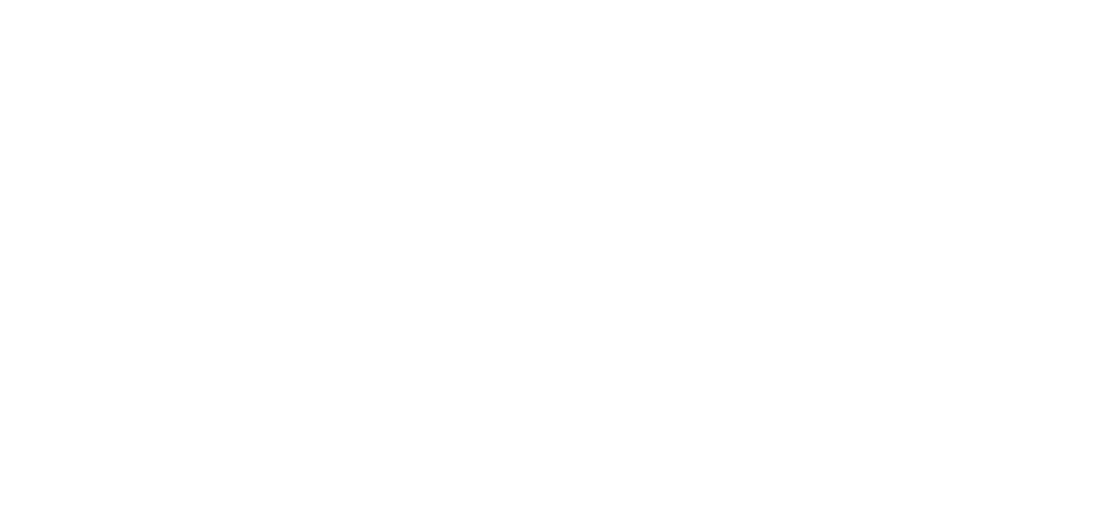
“
Когда начинают говорить орудия, это значит, что дипломатия уже все профукала
Войны можно было избежать, и надо было ее избежать. Я родился и вырос в Советском Союзе, и это была не худшая страна в мире. Да, был кризис, перестройку нужно было делать, но, наверное, не так. Многое зависит от уровня культуры – общей культуры, политической культуры. Прибалтийские страны, хотя у них тоже не все гладко было, и даже сейчас есть вопросы, но, когда развалился Советский Союз, они смогли уйти практически без крови. А у нас получилось с кровью. И Среднеазиатские регионы тоже в 90-е годы полыхали.
Был один нюанс – то, что в Приднестровье все время была расквартирована 14-я армия. Когда выводили советские войска из Европы, дали право возвратиться на родину. Но многие военные, выходя на пенсию, оставались в Тирасполе. Сыновья военных поступали в военные училища...
Кишинев совершил ошибки. Не нужно было ходить по Штефана чел Маре и кричать: «Noi suntem români, noi suntem stăpâni». Нужно было общаться, объяснять, разговаривать. Когда начинают говорить орудия, это значит, что дипломатия уже все профукала. Был единый народно-хозяйственный комплекс. Много национальностей и на том берегу, и на этом. И у нас в «Фулджере» были и украинцы, и русские, и гагаузы, и с той стороны то же самое. Никому из простых людей ничего хорошего [конфликт] не принес.
Был один нюанс – то, что в Приднестровье все время была расквартирована 14-я армия. Когда выводили советские войска из Европы, дали право возвратиться на родину. Но многие военные, выходя на пенсию, оставались в Тирасполе. Сыновья военных поступали в военные училища...
Кишинев совершил ошибки. Не нужно было ходить по Штефана чел Маре и кричать: «Noi suntem români, noi suntem stăpâni». Нужно было общаться, объяснять, разговаривать. Когда начинают говорить орудия, это значит, что дипломатия уже все профукала. Был единый народно-хозяйственный комплекс. Много национальностей и на том берегу, и на этом. И у нас в «Фулджере» были и украинцы, и русские, и гагаузы, и с той стороны то же самое. Никому из простых людей ничего хорошего [конфликт] не принес.
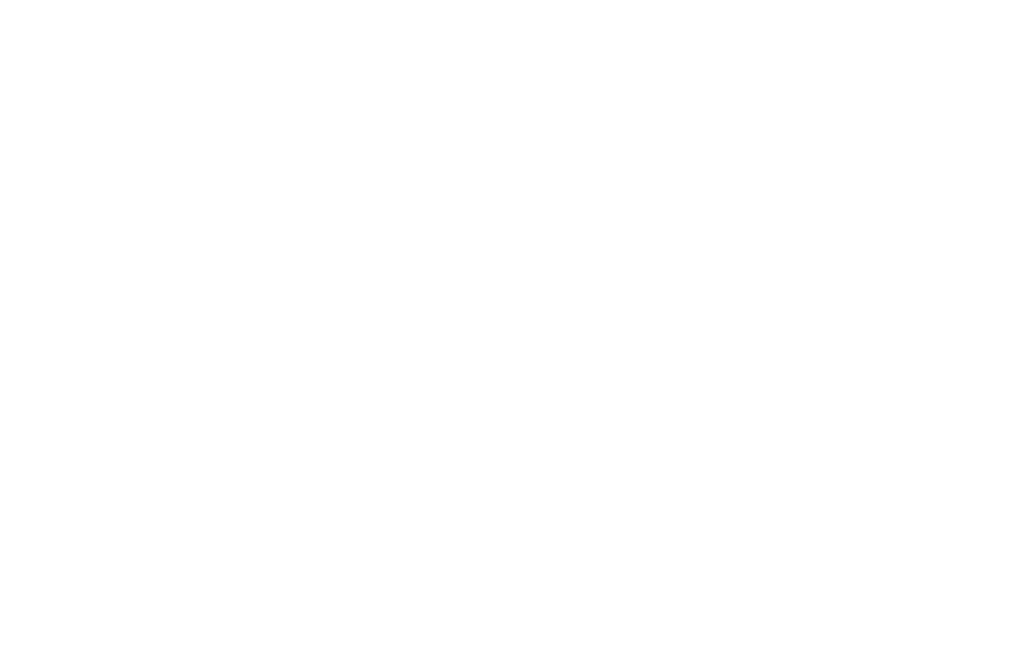
“
Не боится идиот, а у нормального человека есть чувство самосохранения
Когда женился, я уже работал в органах. Я не говорил, что еду на войну. Ротный мой приехал за боеприпасами и за пулеметами, это было в самом начале марта. Он был командиром роты во втором батальоне. Я попросился: «Алек, давай возьми меня с собой обратно в бригаду». Он мне: «Ты чего, ты же тут в "центральном"». Я хотел уберечь своих ребят, они пороха не нюхали. Нужно было переговорить с Гамурарём. А Гамурарь был то на одной позиции, то на другой – метался, как метеор.
Мы тогда ходили строго по форме. Вечером вызывает начальник управления кадров и говорит: «Едешь в Голерканы, в распоряжение штаба. У тебя гражданка есть?». «Есть». «Оденься в гражданку, только личное оружие табельное и удостоверение, и больше ничего с собой». Я поехал туда. Побыл двое или трое суток. Наверное, не стоит говорить, что я там делал. Потом оказалось, что это не очень-то нужно было. Выполнял приказы. Полковник Муравский сказал, что могу возвращаться обратно, а я хотел в Кошницу. «Нет, бой сложнее в Кочиерах. Если хочешь помочь – езжай в Кочиеры».
Мы тогда ходили строго по форме. Вечером вызывает начальник управления кадров и говорит: «Едешь в Голерканы, в распоряжение штаба. У тебя гражданка есть?». «Есть». «Оденься в гражданку, только личное оружие табельное и удостоверение, и больше ничего с собой». Я поехал туда. Побыл двое или трое суток. Наверное, не стоит говорить, что я там делал. Потом оказалось, что это не очень-то нужно было. Выполнял приказы. Полковник Муравский сказал, что могу возвращаться обратно, а я хотел в Кошницу. «Нет, бой сложнее в Кочиерах. Если хочешь помочь – езжай в Кочиеры».
Мы приехали на усиление. С той стороны (ПМР) действовали на испуг, потому что техники танковой еще не было. Это было где-то 12-го марта. Они гнали ИМРы (Инженерная машина разграждения) по Рыбницкой трассе. Ночью хорошо слышен лязг гусениц. Артиллерии еще не было, и они с включенными фарами гоняли то к Рыбнице, то обратно к Дубоссарам, и это действовало на психику.
Жена родила в четверг. Только со службы знали, где я … это было 26 марта. Через Алека меня нашли. Вызвали в штаб, поздравили с рождением дочки, но я не мог уехать, потому что ожидалось нападение. Было сообщение, что будут перерезать паром (в Моловате). Командующий сказал: «Поедешь в воскресенье, если ночь и утро пройдут нормально, я дам тебе свою Волгу». А до этого я был дома всего один раз. Приехал как был, в «березке», с РПК, с разгрузкой, небритый, немытый. Приехал на два часа – увидел дочку и обратно. Для меня самыми трудными были первые сутки, когда я возвращался обратно [на линию огня].
Жена родила в четверг. Только со службы знали, где я … это было 26 марта. Через Алека меня нашли. Вызвали в штаб, поздравили с рождением дочки, но я не мог уехать, потому что ожидалось нападение. Было сообщение, что будут перерезать паром (в Моловате). Командующий сказал: «Поедешь в воскресенье, если ночь и утро пройдут нормально, я дам тебе свою Волгу». А до этого я был дома всего один раз. Приехал как был, в «березке», с РПК, с разгрузкой, небритый, немытый. Приехал на два часа – увидел дочку и обратно. Для меня самыми трудными были первые сутки, когда я возвращался обратно [на линию огня].
Между позициями гвардейцев [ПМР] и нашими позициями был ров. В Коржево – там одна сторона улицы была нашей, другая – гвардейцев. Селяне все убежали, потому что стреляли. Как-то [с их стороны] гвардеец и казак пошли квасить. Казак, хоть и донской, но к молдавскому вину не привыкший, и он свалился у входа в погреб. А этот [гвардеец] вышел с автоматом на шее [на рогах]. Они выходят из погреба, а там дед, и гвардеец спрашивает: «Moș, unde sunt ai noștri?» [«Дед, где наши?»]. Спросил на молдавском… Дед указал: «Acolo» («Там»). Спросил бы на русском, может было бы иначе. В общем, дед его послал к нашим позициям. Он, пьяный в дупель, по минному полю (заминировано было с обеих сторон) прошел, не подорвался. Наши его увидели, смотрят – ХБшки-то, обмундирование, вооружение у всех одинаковые. Наши кричат: «Stai, cine e acolo?» («Стой, кто идет?») На румынском он отвечает: «Чего стоять? Заколебали, устал». «Ну так не стой, прыгай в траншею» (вольный перевод игры слов - прим. ред). У них была там канистра вина и один стакан, по кругу пускают. Доходят до него (гвардейца), а он уже готовый, его спрашивают: «Stacan de jin bei?» – «Beu». («Стакан вина выпьешь?» – «Выпью») Вася рассказывал потом: «Я ему налил стакан, смотрю, а он, как новогодняя елка» – у него реактивные 30-ки осветительные, сигнальные, у него гранаты – и РГДшки и Ф-ки, видно, что лифчик [военный жилет] нормальный, армейский и «рожки» по 45 (патронов). Я ему протягиваю стакан и спрашиваю: «Вэй, ты откуда, с какого райотдела». «Я не с райотдела». «А откуда?». «С ополчения, с Рыбницы». Вася так и застыл с открытым ртом. Ополченец взял стакан: «Hai noroc, băieți» («Будем здоровы, парни!»). Вася хвать его автомат, и «руки вверх». Этот допил стакан и: «Care "руки вверх?"» («Зачем руки вверх?»). Его взяли в плен, но он сам приперся. Его пьяного привезли… притащили в штаб. Потом сдали в СИБ. Казака отпустили на родину. А этого, насколько я знаю, [тоже] отпустили… Он женат был в Рыбнице, а сам он из Ворничен (Страшенский район, Молдова).
Было страшно – только идиот не боится, а у нормального человека есть чувство самосохранения. Картина страшная была, когда в мае появились танки на кочиерском плацдарме. Они вообще били по парому – попали в паром, но выше ватерлинии. Били и по Старой Моловате, убили осколком беременную женщину – ее и ребенка. Наши позиции были за околицей. По оврагам, по полям – люди не уходили. Мужики все были в добровольцах. Местные воевали, женщины и дети никуда не уходили – это их земля, мужья воюют в траншеях. Когда эти танки начали стрелять и бить по селу, в селе – разрушение, паника, страх. Я спустился в село, к штабу, было рано утром. Люди: женщины и дети, в чем их застало – в ночнушках, в трусах, с котомками и бегом к парому. Вот это страшно было. Это как показывают в фильмах про войну, про 41-й год. До сих пор больно – это никому не было нужно.
Не с той ноги мы начали. Были интересы империи. Империя не хотела нас отпускать. Официально отпускала, неофициально чинила препятствия. На тот момент мы не доросли – нужны были политики, которые реально смотрят на вещи.
Не с той ноги мы начали. Были интересы империи. Империя не хотела нас отпускать. Официально отпускала, неофициально чинила препятствия. На тот момент мы не доросли – нужны были политики, которые реально смотрят на вещи.
В ночь перед Бендерами (битва за Бендеры продолжалась с 19 по 22 июня) у нас было перемирие. Перемирие должно было быть до 26 июня. Мы купались у плотины. Гвардейцы тоже. Друг друга видели без бинокля. Не смешивались, нет, хотя были случаи братания на Пасху, но я не ходил, ходили другие ребята. И вот приезжает гонец из штаба, из сводного батальона, и говорит: «Обратно, к машинам, сейчас начнется». – «Что начнется?». – «Артобстрел!».
В Афгане я был танкистом – у меня в руках был пульт от 115 мм. А тут били, так, по звуку, с танков, с БМП-2, с БМП-1, с «Васильков» (крупнокалиберных минометов), то есть был такой концерт. Я ребятам сказал, чтобы все под МТ-ЛБшки прям под зданиями. Чтобы крыша прикрывала, вдруг мина попадет. Лежу и курю, чую, что живот ходит. Вроде, не первый раз. Смотрю на руки – руки не дрожат, но живот ходит. Это от страха что-ли? Ни хрена себе. Мы были в мертвом углу, но миномет зацепить мог. Я не мог врубиться. Страшно, это нормально, естественно, что страшно. Но так, чтобы желудок ходил в животе... Началось это все в 12 дня, в течении пяти минут дошло до максимума, и били до 4 утра, но после часу ночи уже шло по убыванию.
В Афгане я был танкистом – у меня в руках был пульт от 115 мм. А тут били, так, по звуку, с танков, с БМП-2, с БМП-1, с «Васильков» (крупнокалиберных минометов), то есть был такой концерт. Я ребятам сказал, чтобы все под МТ-ЛБшки прям под зданиями. Чтобы крыша прикрывала, вдруг мина попадет. Лежу и курю, чую, что живот ходит. Вроде, не первый раз. Смотрю на руки – руки не дрожат, но живот ходит. Это от страха что-ли? Ни хрена себе. Мы были в мертвом углу, но миномет зацепить мог. Я не мог врубиться. Страшно, это нормально, естественно, что страшно. Но так, чтобы желудок ходил в животе... Началось это все в 12 дня, в течении пяти минут дошло до максимума, и били до 4 утра, но после часу ночи уже шло по убыванию.
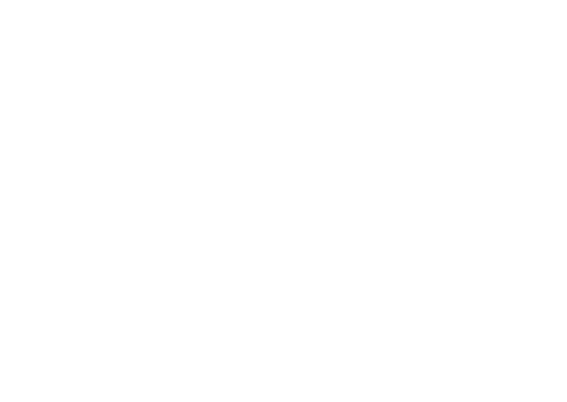
“
Я верил, что я воюю за свою процветающую Молдову
Домой ехал с радостью, что все закончилось, что не нужно будет больше стрелять. Там же тоже живые люди. Все войны когда-нибудь заканчиваются. То, что война закончилась, это слава богу. Но это же был единый организм. Что тут, на этом берегу – национальности, одна, вторая, третья, пятая, десятая, что там – и родня есть, и друзья есть. Это ненормально!
Это никому не было нужно. Но я – офицер, я давал присягу, и я воевал за целостность и независимость. Но и с той стороны воевали за это же. В Афганистане в учебке нас гоняли до автоматизма, потому что в боевой обстановке начинаешь размышлять: «А, может, это так, а тот человек – личность». И ты теряешь крупицу времени, которая может стать твоей последней секундой. А тут другое – не нужно было допускать войны. Это вина нашей дипломатии и нашего руководства. Не хватило ума, политического такта, прозорливости.
Первый период, когда был Снегур, я называю это периодом романтиков. Тогда на авансцену вышли те, кто говорил, что мы действительно можем что-то сделать, и стремились что-то сделать. Я верил, что воюю за процветающую свою Молдову, которая будет лучшей страной, может, не самой, но одной из лучших в мире. Но получилось то, что получилось. То, что у нас было, мы не сохранили, мы разрушили.
Это никому не было нужно. Но я – офицер, я давал присягу, и я воевал за целостность и независимость. Но и с той стороны воевали за это же. В Афганистане в учебке нас гоняли до автоматизма, потому что в боевой обстановке начинаешь размышлять: «А, может, это так, а тот человек – личность». И ты теряешь крупицу времени, которая может стать твоей последней секундой. А тут другое – не нужно было допускать войны. Это вина нашей дипломатии и нашего руководства. Не хватило ума, политического такта, прозорливости.
Первый период, когда был Снегур, я называю это периодом романтиков. Тогда на авансцену вышли те, кто говорил, что мы действительно можем что-то сделать, и стремились что-то сделать. Я верил, что воюю за процветающую свою Молдову, которая будет лучшей страной, может, не самой, но одной из лучших в мире. Но получилось то, что получилось. То, что у нас было, мы не сохранили, мы разрушили.
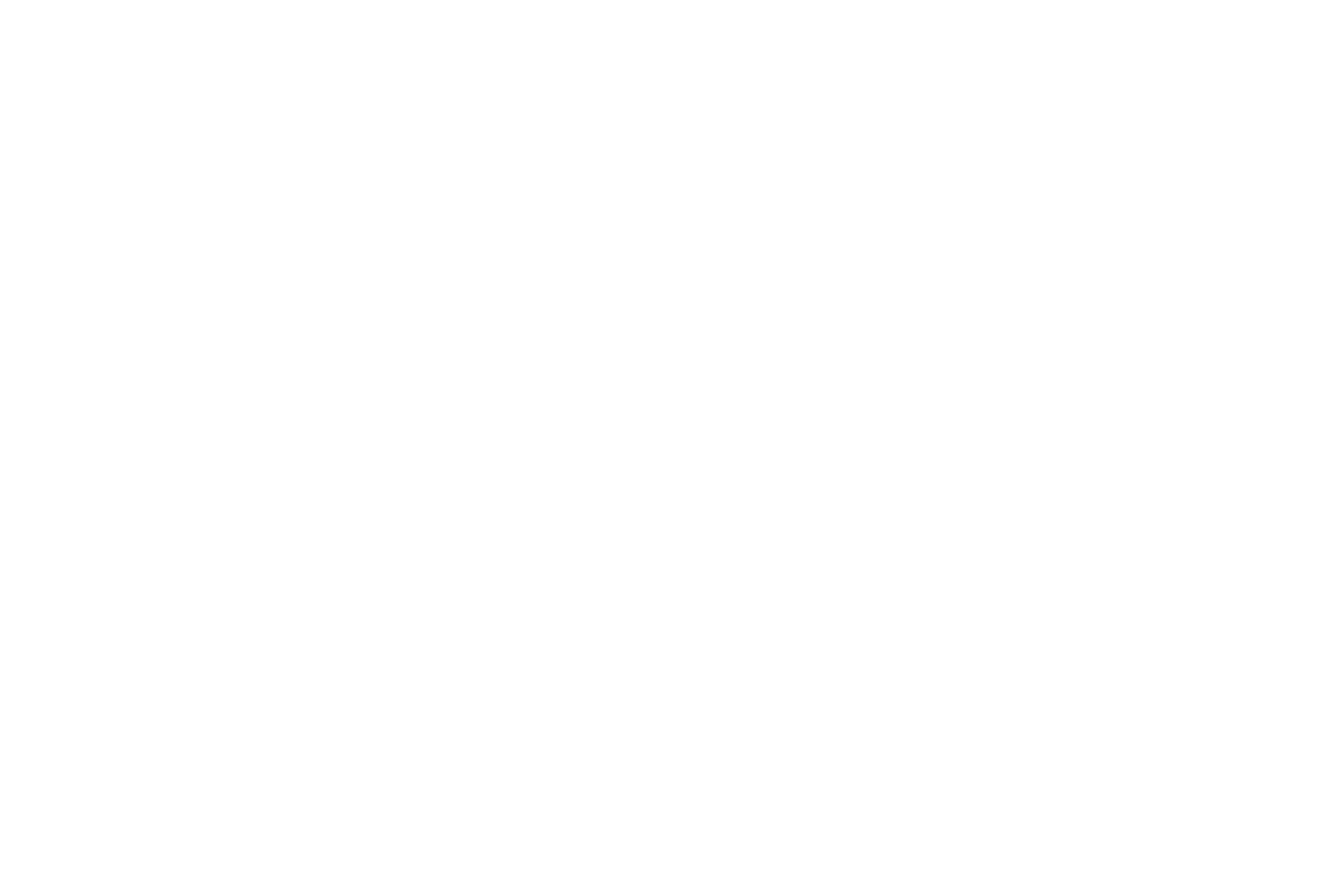
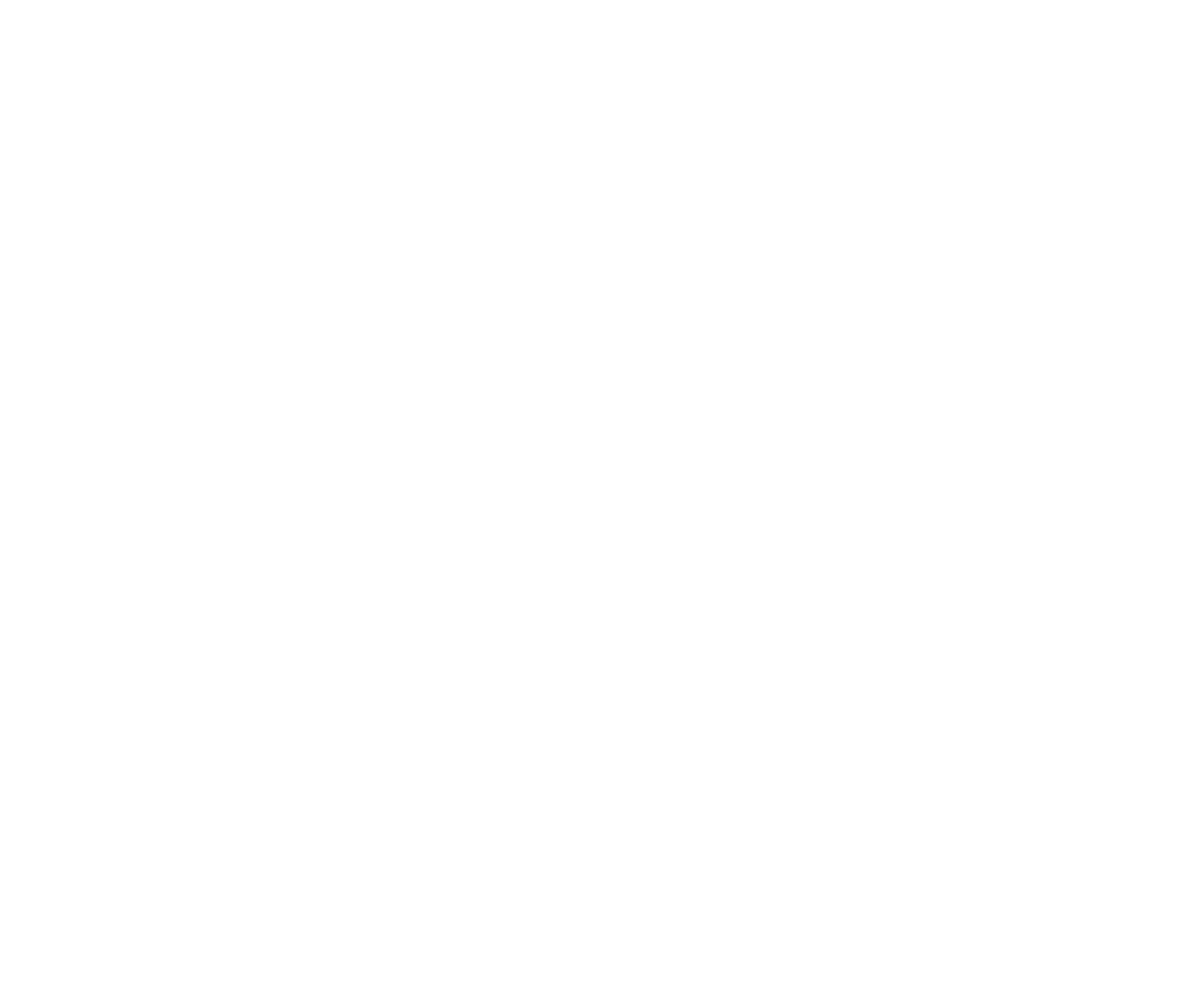
“
Вспоминаю войну, особенно когда дождь идет. Мне плохо
Я окончил медучилище. И перед армией проходил практику. Думал, потом поступать в медицинский институт. Я служил на границе с Турцией – пограничные войска в Аджарии, Грузия. После возвращения из армии начались эти волнения [движение национального возрождения], я пропустил год, думал, потом поступлю. Но пошел в полицию, потому что предложили. Я был из деревни, у меня не было прописки в Кишиневе, а, чтобы устроиться, например, в скорую, должна быть городская прописка. А в полиции этого не требовали. Так из-за прописки попал в полицию, из-за того, что не было родственников в Кишиневе. Это были советские замашки. А тут главное приходить на работу, и неважно, где ты живешь. Я не любитель менять работу каждый месяц, устроился и – до пенсии, ла реведере.
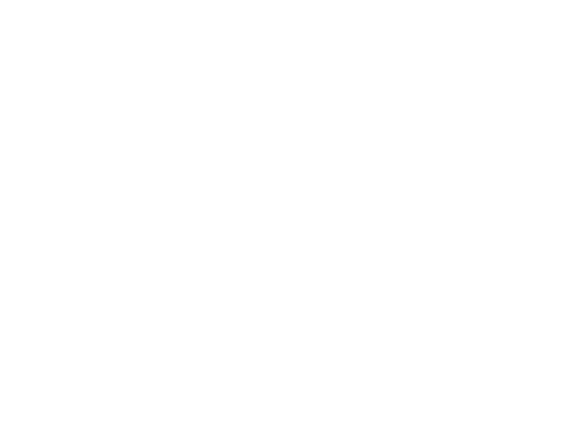
“
Ваш сын умер
В 1992 в марте началась война. Тогда я был молодой лейтенант полиции. Вызвал начальник, сказал, что отправляюсь в командировку в зону боевых действий. Как натренировали, так натренировали. Уже на месте посмотрим, что там. Куда именно нас отправляли – мы не знали. Знали, что выдали оружие и боеприпасы. Начальник перед отъездом вызвал в кабинет. Нас четверо ребят – один по дороге, перед тем как сесть в «уазик», отказался. Сказал, что у него мать больная, сердце болит, и мы поехали втроем. Даже не знаю, я об этом не думал [чтобы не поехать]. А, может, и думал. Но была поставлена задача и нужно было ее выполнить. Мы – люди военные, с дисциплиной.
В Приднестровье тогда не было воинских частей. Там была расквартирована 14-я армия. То, что говорят – вмешалась или не вмешалась… она вмешалась стопроцентно. Там работали боевые офицеры, потому что там такие мероприятия делали. Простой гражданин не может так стрелять и делать такие маневры. Там были кадровые офицеры 14-й армии. Разведка хорошо работала. Это была их работа. Какие приказы были, такие выполняли.
В Приднестровье тогда не было воинских частей. Там была расквартирована 14-я армия. То, что говорят – вмешалась или не вмешалась… она вмешалась стопроцентно. Там работали боевые офицеры, потому что там такие мероприятия делали. Простой гражданин не может так стрелять и делать такие маневры. Там были кадровые офицеры 14-й армии. Разведка хорошо работала. Это была их работа. Какие приказы были, такие выполняли.
Страшный день был, когда меня ранили. Это самый страшный день. Но их была куча. Когда друзей, соратников убивают. Зрелище не из приятных. Был один бой, возле Роги, когда стреляли из танка, гаубицы, снесли голову одному парню. Зрелище незабываемое. Кровь. Неприятно – и визуально, и морально. Трагедия с обеих сторон. Погибали люди и с нашей стороны, и с их стороны.
Не было жалко мародеров. Не жалко приезжих – из России и Украины, казаков. Они были очень дерзкими. Кажется, с Кубани приехали, зэки. Наглые, беспощадные. Что вытворяли там – страшно. Как на войне.
Меня ранили в позвоночник. Мы шли менять посты, и в это время началась перестрелка. Мне сообщили, что есть раненые. Я выскочил из окопа, был в бронике. Было темно, одиннадцать или полдвенадцатого ночи. Тишина. И выстрел сзади. Бой был на близком расстоянии, у них были приборы ночного видения, они были очень оснащены боеприпасами. Это было 22 мая.
Тогда я не был женат. Родители даже не знали, я не делюсь подобным, они узнали, когда меня ранили. Меня привезли ночью в госпиталь МВД, там не было бригады хирургов, меня перевели в БСМП, потому что нужна была срочная операция. И когда я был в приемном покое, какая-то женщина услышала мои имя и фамилию. Эта женщина была из моего села, она сразу позвонила домой и сказала, что ваш сын умер. Потому что я был накрыт. И тогда началось – сестры, родственники все начали приходить домой со свечками. На второй или третий день я вышел из реанимации, пришла сестра и увидела, что я живой. Мама тоже была здесь, стояла внизу у Больницы скорой помощи. Им не разрешали подниматься наверх. [После этого] я год был в инвалидной коляске.
Не было жалко мародеров. Не жалко приезжих – из России и Украины, казаков. Они были очень дерзкими. Кажется, с Кубани приехали, зэки. Наглые, беспощадные. Что вытворяли там – страшно. Как на войне.
Меня ранили в позвоночник. Мы шли менять посты, и в это время началась перестрелка. Мне сообщили, что есть раненые. Я выскочил из окопа, был в бронике. Было темно, одиннадцать или полдвенадцатого ночи. Тишина. И выстрел сзади. Бой был на близком расстоянии, у них были приборы ночного видения, они были очень оснащены боеприпасами. Это было 22 мая.
Тогда я не был женат. Родители даже не знали, я не делюсь подобным, они узнали, когда меня ранили. Меня привезли ночью в госпиталь МВД, там не было бригады хирургов, меня перевели в БСМП, потому что нужна была срочная операция. И когда я был в приемном покое, какая-то женщина услышала мои имя и фамилию. Эта женщина была из моего села, она сразу позвонила домой и сказала, что ваш сын умер. Потому что я был накрыт. И тогда началось – сестры, родственники все начали приходить домой со свечками. На второй или третий день я вышел из реанимации, пришла сестра и увидела, что я живой. Мама тоже была здесь, стояла внизу у Больницы скорой помощи. Им не разрешали подниматься наверх. [После этого] я год был в инвалидной коляске.
“
Меняется мир, меняются люди, меняется все вокруг
В Кишиневе – другой мир, здесь нет выстрелов, здесь люди ходят в костюмах и коротких юбках. Не чувствовали, что страна воюет, что все это происходит на берегу Днестра. Была обида. Большая обида. На всех обида в душе, потому что все было организовано ненормально, везде предатели. Начиная с парламента, заканчивая командиром. Мы должны подчиняться единому штабу, а не так, что мы занимаем одну дорогу, а завтра нам говорят возвращаться обратно. Многие предатели были в структурах МГБ и КГБ, все русскоязычные. Люди, которые служили тому режиму, который был до этого. Таких специалистов в молодой стране не было – ни в СИБ, ни в МВД, ни в армии. В то время даже армии не было, только начинала формироваться. Она сформировалась 3 сентября, начали мобилизовывать тех, кто вернулся из России, стали создавать национальную армию. Мы пошли с пистолетами, автоматами, со щитами, но все оказалось по-другому.
Не мог привыкнуть к мирной жизни. Но нужно брать себя в руки. Получилось так, что я год не мог ходить, был в больницах то здесь, то в Украине, то в Румынии. Деньги просили в Украине. Между министерствами здравоохранения Украины и Молдовы были взаимоотношения, контракты для лечения, но я не попадал в эту категорию. Наши начальники могут оперироваться в Украине, в Германии, Румынии, где хотят, а рядовым людям очень тяжко. После войны мне помог Воронин [Владимир Воронин – третий президент Молдовы, экс-глава МВД], очень помог, потому что меня не хотели отправлять в Украину лечиться. А с помощью Владимира Николаевича мне подписали в министерстве здравоохранения письмо, и прооперировали в Киеве. После этого прошло меньше полугода и оперировался в Бухаресте. После этого мне стало лучше.
Не мог привыкнуть к мирной жизни. Но нужно брать себя в руки. Получилось так, что я год не мог ходить, был в больницах то здесь, то в Украине, то в Румынии. Деньги просили в Украине. Между министерствами здравоохранения Украины и Молдовы были взаимоотношения, контракты для лечения, но я не попадал в эту категорию. Наши начальники могут оперироваться в Украине, в Германии, Румынии, где хотят, а рядовым людям очень тяжко. После войны мне помог Воронин [Владимир Воронин – третий президент Молдовы, экс-глава МВД], очень помог, потому что меня не хотели отправлять в Украину лечиться. А с помощью Владимира Николаевича мне подписали в министерстве здравоохранения письмо, и прооперировали в Киеве. После этого прошло меньше полугода и оперировался в Бухаресте. После этого мне стало лучше.
Потом я еще прослужил в полиции. Но потом начал себя плохо чувствовать: травмы, которые у меня были, стали доставлять мне проблемы. Начались головные боли. И я уволился. Год или полтора нигде не работал, плохо себя чувствовал. Не мог работать. Ходил по поликлиникам, санаториям, по бабкам. Без таблеток не мог заснуть, очень тяжелый период в жизни был. Не хочется вспоминать. В 94-м я женился, в 95-м появились дети. Тогда меняли деньги, появлялись купоны, стало тяжело жить. Я жил на квартире. Боже мой, почти вся зарплата уходила на квартиру, все продукты присылали из деревни, очень тяжко было. Но потом начали работать, дети в садике, и вперед.
Меняется мир, меняются люди, меняется все вокруг. Мы привыкли жить в большой стране, а когда отделились – помню, как кричали в деревне: «Дайте нам землю». Подсунули нам эти проекты, развалили колхозы и фабрики. И стали царьками те, кто был директором колхоза, начальником завода и фабрики, они распродали все это. Потом пошел второй вал этого обмана – все приватизировали на купоны. Обнищали все. Как можно работать на трех гектарах земли, с лошадью или без ничего? Очень тяжело жить. Этот переходной период – мы ведь из социализма сразу вышли на капитализм. Кто больше крадет, тот больше имеет. Мы были воспитаны в другой системе.
Меняется мир, меняются люди, меняется все вокруг. Мы привыкли жить в большой стране, а когда отделились – помню, как кричали в деревне: «Дайте нам землю». Подсунули нам эти проекты, развалили колхозы и фабрики. И стали царьками те, кто был директором колхоза, начальником завода и фабрики, они распродали все это. Потом пошел второй вал этого обмана – все приватизировали на купоны. Обнищали все. Как можно работать на трех гектарах земли, с лошадью или без ничего? Очень тяжело жить. Этот переходной период – мы ведь из социализма сразу вышли на капитализм. Кто больше крадет, тот больше имеет. Мы были воспитаны в другой системе.
“
Один занимался бизнесом, делал деньги, другой – на шару воевал
[К митингам ветеранов отношусь] положительно. Довели эту категорию людей. То, что они нищие, это одно, но они и социально не защищены. Когда у человека нечего кушать и нет работы, нечем кормить семью… Есть богатые и нищие, нет середины. 80% должна быть середина, 10% богатые и 10% нищие. А у нас нет среднего класса, нет работяг, ничего не происходит. Если бы у того, кто выходит на площадь, была работа, то он был не выходил на площадь с протянутой рукой. Они в парламенте получают по 40, по 20 тысяч, а этому дают пенсию 600 . Это же нечестно. Судья имеет по 40-50 тысяч, он хорошо живет, покупает себе что-то. А у этого 600 леев и на лекарства не хватает. Эти [чиновники] сидели в кабинете, а этот пошел (на войну). Он их поднял в эти кресла. После войны я был у одного ветерана-инвалида, он снимал пол и топил им печь, чтобы не замерзнуть. [Я тоже] участвую, когда есть время и реальные требования. А когда они требуют то, что страна не может им дать, нам не по пути. Есть разумные требования. Нужно работать. Если хочешь что-то иметь, нужно пахать. Не будешь пахать – будешь ходить голодным. Или пойдешь воровать и в тюрьму.
Обидно мне, обидно ветеранам. Тот, кто не был на войне, кто не был ранен и контужен, тот занимался бизнесом, продавал что-нибудь, делал деньги, купил квартиру. А этот – на шару воевал. Вот и все. Безалаберное отношение властей к этим категориям людей. Всегда их как стадо овец зовут на выборы и на четыре года забывают. От выборов до выборов ничего конструктивного не делают. Ни один президент, ни один парламентарий, ни один министр.
Обидно мне, обидно ветеранам. Тот, кто не был на войне, кто не был ранен и контужен, тот занимался бизнесом, продавал что-нибудь, делал деньги, купил квартиру. А этот – на шару воевал. Вот и все. Безалаберное отношение властей к этим категориям людей. Всегда их как стадо овец зовут на выборы и на четыре года забывают. От выборов до выборов ничего конструктивного не делают. Ни один президент, ни один парламентарий, ни один министр.
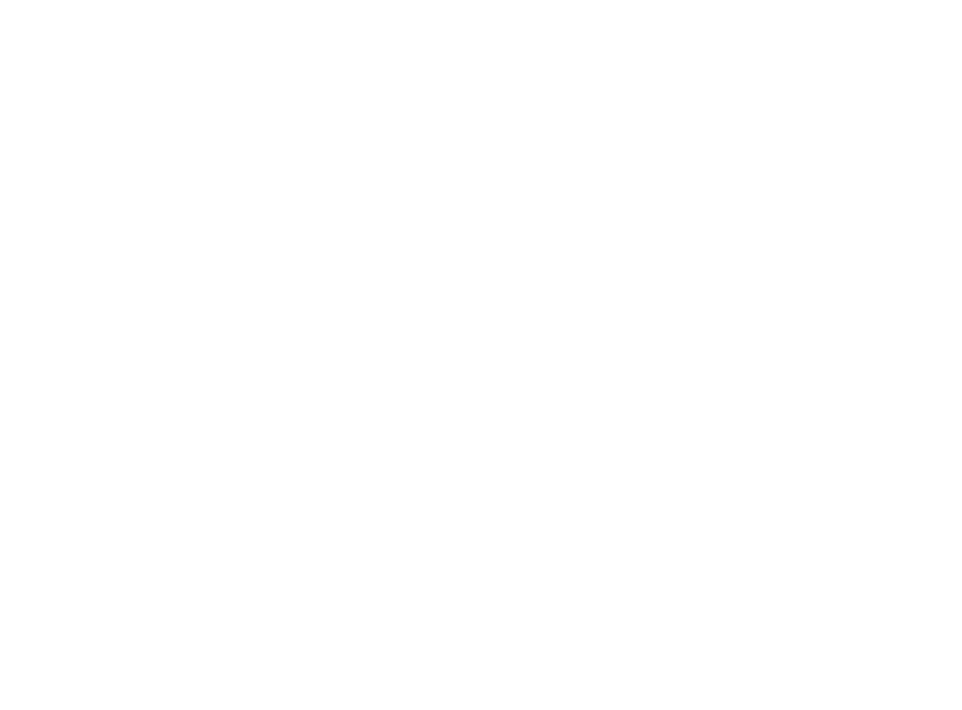
“
Не каждый человек выдержит то, что мы видели.
Там [в Кочиерах] почти ничего не сохранилось, что было тогда. Все развалено, обросло деревьями, и многие знакомые поумирали. Чувство тревоги, когда проходишь посты миротворцев. [В голове] не укладывается. Что они охраняют? Просто обида. Плевок в лицо всем государственным деятелям эти посты. Как они хотят соединить, если все больше стараются, чтобы разделить.
Вспоминаю войну, особенно когда дождь идет. Мне плохо. Когда дождливая погода, тучи, бывает, что мне очень плохо. Сны плохие. То, что случилось со мной – война. Эмоционально – не каждый человек выдержит то, что мы видели. Многие отказываются [идти на войну], уходят, не начиная идти, отворачиваются, не хотят этого. Но надо ставить вопрос по-другому: тут отказ, там отказ, а кто пойдет? Чтобы завтра нас заставляли разговаривать на русском языке, на китайском? Нужно защищать свой язык, свою землю. Это с нами испокон веков. Мы же не захватываем, мы защищаем то, что наше.
Вспоминаю войну, особенно когда дождь идет. Мне плохо. Когда дождливая погода, тучи, бывает, что мне очень плохо. Сны плохие. То, что случилось со мной – война. Эмоционально – не каждый человек выдержит то, что мы видели. Многие отказываются [идти на войну], уходят, не начиная идти, отворачиваются, не хотят этого. Но надо ставить вопрос по-другому: тут отказ, там отказ, а кто пойдет? Чтобы завтра нас заставляли разговаривать на русском языке, на китайском? Нужно защищать свой язык, свою землю. Это с нами испокон веков. Мы же не захватываем, мы защищаем то, что наше.
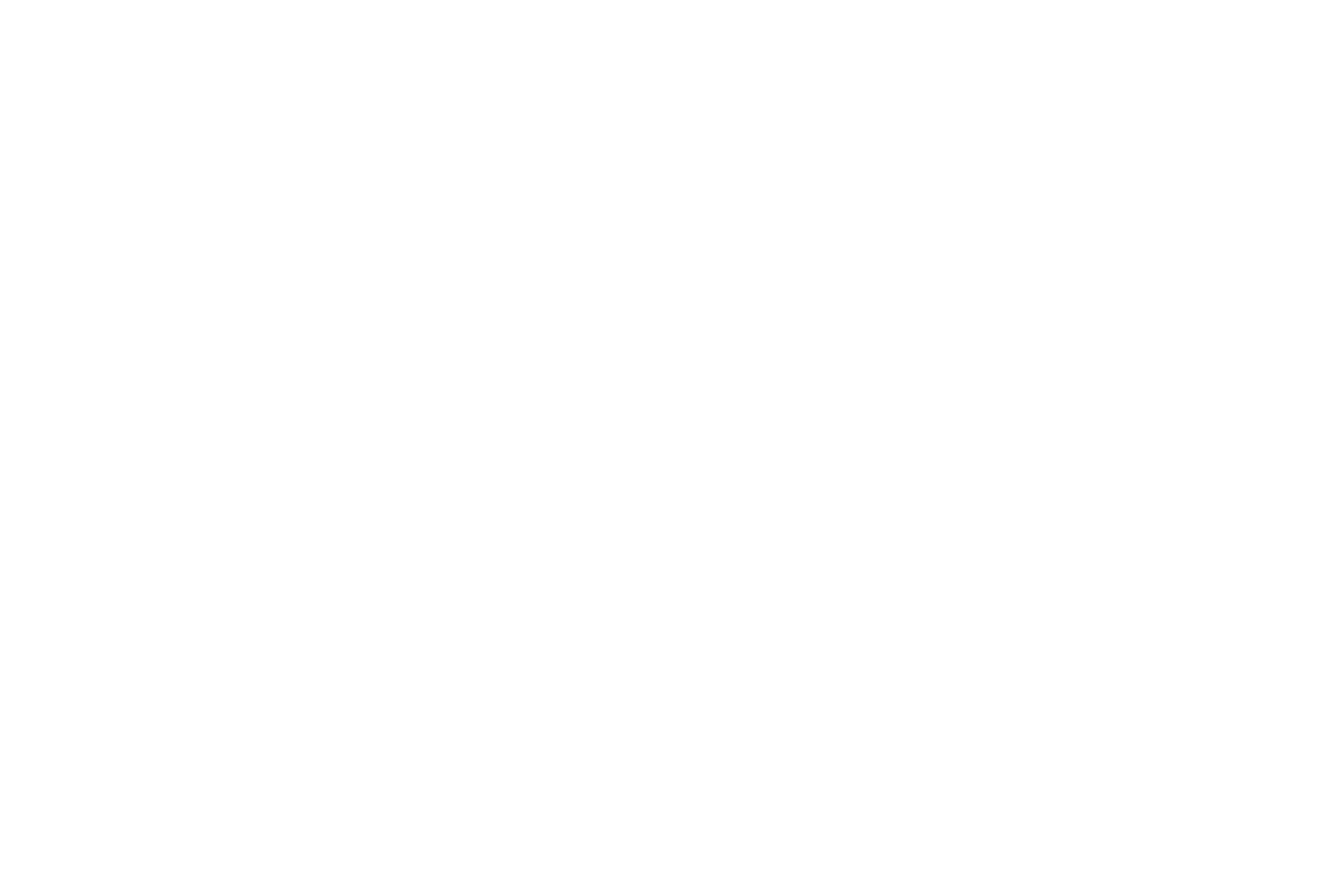
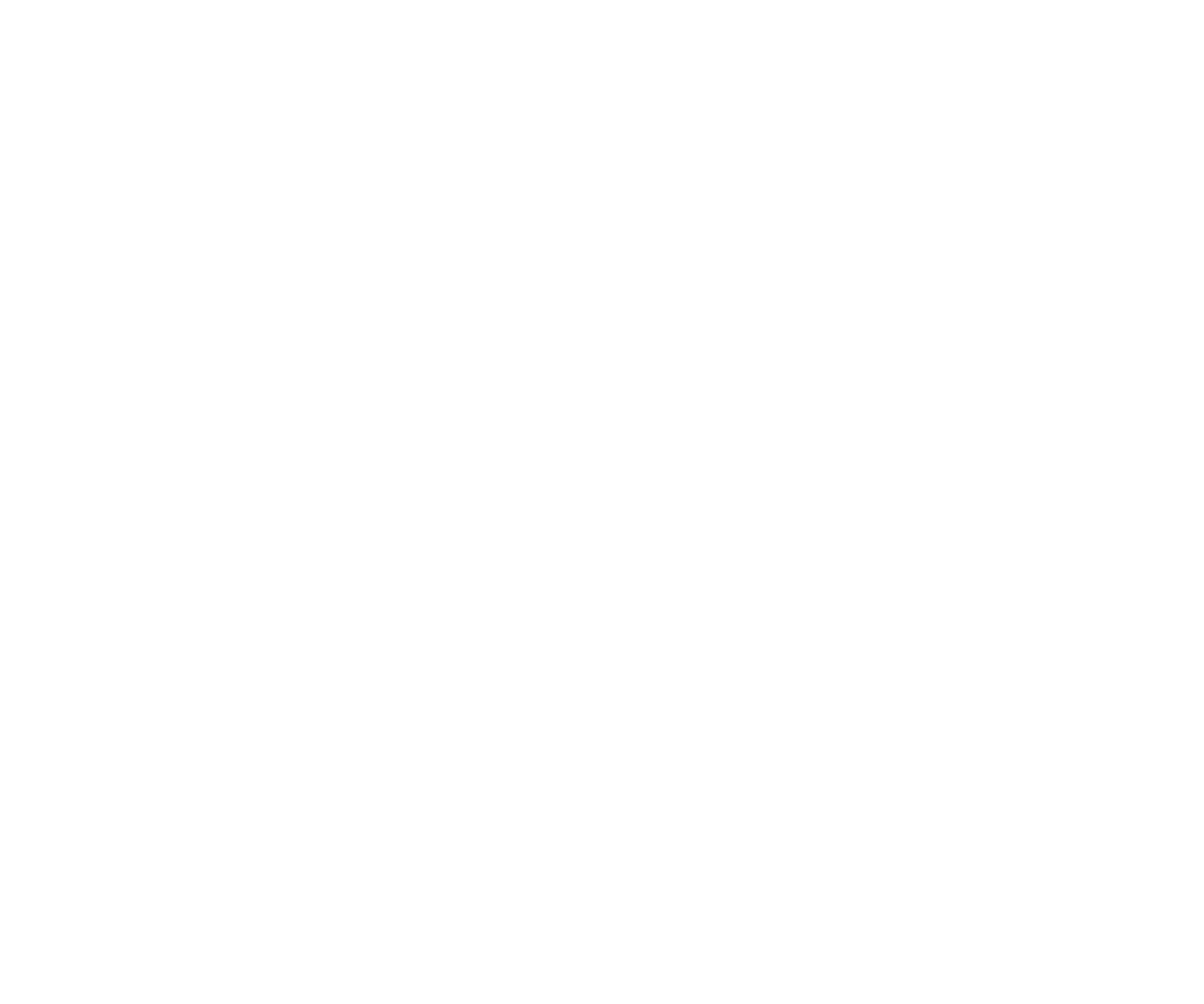
“
Когда я ступаю на землю в Приднестровье, начинаю дрожать
Я окончил училище в Вулканештах, после армии женился, и 16 мая 1992 года родился ребенок. Тогда я жил в селе, где родился – в Кицканах Теленештского района. Мне было 22 года. Отец воевал во Второй мировой, он был инвалид первой группы. Появились слухи, что на нас напали казаки, и он считал, что я должен пойти защищать нашу землю от казаков. Я хорошо обдумал это, но слово отца было для меня законом, мы были воспитаны по-другому, не так, как новые поколения – не слушаются. Мой отец воспитал семерых детей, все получили образование. И вот я сам пошел в военкомат и написал заявление, чтобы пойти и защищать нашу землю. Я ждал июня, пришла повестка, где спрашивали, готов ли я пойти. Я ответил, что готов защищать родину. В это же время стали погибать многие знакомые. И мне было очень тяжело от того, что умирают молодые люди. Я должен пойти защищать, как защищал мой отец.
Мама умерла в 91 году, отец был еще жив, он меня обнял, плакал, жена тоже плакала, у меня уже ребенок родился. Я оставлял ребенка, чтобы пойти защищать свою родину. Плакали, просили беречь себя. Я помню, как отец сказал, что он дошел до Берлина, был пулеметчиком, получил ранение, и ему ампутировали ногу. Было тяжело, но что было делать? Если бы я не пошел, другой пошел бы. Знаете, может быть, было иначе.
Я пошел в ОМОН, написал заявление, чтобы стать полицейским. И тогда начался тот конфликт. И пока комиссию не прошел, начал воевать вместе с бригадой. Были в Кочиерах, в Кошнице, потом 19 июня нас выбросили в Бендеры.
Мама умерла в 91 году, отец был еще жив, он меня обнял, плакал, жена тоже плакала, у меня уже ребенок родился. Я оставлял ребенка, чтобы пойти защищать свою родину. Плакали, просили беречь себя. Я помню, как отец сказал, что он дошел до Берлина, был пулеметчиком, получил ранение, и ему ампутировали ногу. Было тяжело, но что было делать? Если бы я не пошел, другой пошел бы. Знаете, может быть, было иначе.
Я пошел в ОМОН, написал заявление, чтобы стать полицейским. И тогда начался тот конфликт. И пока комиссию не прошел, начал воевать вместе с бригадой. Были в Кочиерах, в Кошнице, потом 19 июня нас выбросили в Бендеры.
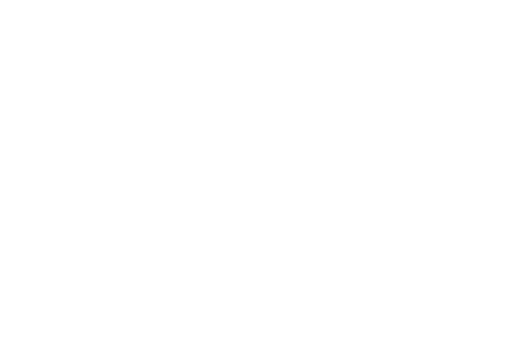
“
Я должен был умереть три раза
Самые тяжелые дни были 19-20-21 июня. У кинотеатра «Дружба». Одного парня только привезли, оставили его там со снайпером, и сразу с той стороны его застрелили в голову. Даже прямо в рот выстрелили одному. Было тяжело. На войне ты должен быть внимательным, постоянно смотреть по сторонам. И, если ты не выстрелишь в него, он выстрелит в тебя.
За всю войну в Бендерах я должен был умереть три раза. Трижды меня должны были застрелить снайперы. Я был зенитчиком, у нас была броня. Когда ездили по городу за ранеными и мертвыми, я постоянно крутился вокруг башни на МТ-ЛБ, и, если бы не крутился, то в меня попали бы из пушки. Большинство из нас ездили днем. Но самые ожесточенные бои были ночью. Три раза стреляли именно в меня, а попадали в засаду, в казармы, в крепость. Наша база была в комиссариате. Но мы ночевали и в МТ-ЛБшке. Еду привозили волонтеры, женщины из Каушан. Ели сухой паек. Когда не было возможности, ели что было. Бывало, что нечего есть, но выжили.
За всю войну в Бендерах я должен был умереть три раза. Трижды меня должны были застрелить снайперы. Я был зенитчиком, у нас была броня. Когда ездили по городу за ранеными и мертвыми, я постоянно крутился вокруг башни на МТ-ЛБ, и, если бы не крутился, то в меня попали бы из пушки. Большинство из нас ездили днем. Но самые ожесточенные бои были ночью. Три раза стреляли именно в меня, а попадали в засаду, в казармы, в крепость. Наша база была в комиссариате. Но мы ночевали и в МТ-ЛБшке. Еду привозили волонтеры, женщины из Каушан. Ели сухой паек. Когда не было возможности, ели что было. Бывало, что нечего есть, но выжили.
Дважды был дома: один раз приехал из Бендер, а второй раз были проблемы с подшипниками у МТ-ЛБшки, нужно было в Оргеевский район поехать и поменять. Эти два дня мы были дома. Я думал, что и здесь [в Кишиневе] война. Мы там воюем, и здесь тоже воюем. Было чрезвычайное положение, было тревожно. Ночь спал дома и на следующий день обратно. Тяжело было оставлять дочь, она маленькая, ей три месяца. И слезы на глазах были. Но я должен был отдать долг до конца. Я был патриот, и есть патриот Республики Молдова. Если я говорю «да», значит, будет сделано. Если «нет», то никто меня не сможет уговорить. Такой характер.
В Бендерах было очень тяжело воевать, потому что там дома. Снайперы были. В экипаже пять человек. С моей машины двоих убили снайперы. Кто думает, что не было войны – нет, это была серьезная война. На мой день рождения вывели технику из Бендер. Помню это хорошо. И было перемирие. Остались полицейские, которые не были на технике, и так закончилась наша война. Считается, что это был политический конфликт. Не знаю, кому это надо было, но было что было. Умерли невиновные люди, остались мамы без детей, жены без мужей.
В Бендерах было очень тяжело воевать, потому что там дома. Снайперы были. В экипаже пять человек. С моей машины двоих убили снайперы. Кто думает, что не было войны – нет, это была серьезная война. На мой день рождения вывели технику из Бендер. Помню это хорошо. И было перемирие. Остались полицейские, которые не были на технике, и так закончилась наша война. Считается, что это был политический конфликт. Не знаю, кому это надо было, но было что было. Умерли невиновные люди, остались мамы без детей, жены без мужей.
“
Если кто-то со стороны посмотрит, скажет, что со мной не все в порядке.
Я вернулся, но не чувствовал, что будем жить в мире и не будет войны. Это постепенно отошло. Мы все были нервные, многие получили контузии, много всего видели. Нужно было отправить в госпиталь на лечение всех, кто держал в руках автомат, лечить психические расстройства, успокаиваться. Но для нас ничего не сделали. Может, для офицеров. Может, они и получили это, а мы, сержанты, нет. Сейчас нам дают бесплатный санаторий один раз в три года. Этого тоже мало. Хотя бы сделали раз в год, это было бы лучше, лечились бы люди, отдохнули чуть-чуть. Обещают 28 лет. Многие ветераны уже умерли, многие умирают, болеют все. Спасибо богу, что я в свои 53 серьезно не болел. А других жалко, всех ветеранов.
Эти два месяца оставили боль в душе, воспоминания. Честно сказать, когда я ступаю на землю в Приднестровье, начинаю дрожать, эмоции очень сильные. Особенно в Бендерах – могут и слезы выступить. Потому что я знаю, что там было. Вспоминаю сразу все улицы, кинотеатр «Дружба». Вспоминаю и начинаю дрожать. Если кто-то со стороны посмотрит, скажет, что со мной не все в порядке.
Сейчас это по-прежнему тяжело, после 28 лет. Я пытаюсь не вспоминать. Помню, как я был маленьким, самый младший в семье, постоянно спрашивал отца о войне, как они воевали. У него появлялись слезы на глазах, и он говорил: «Лучше не спрашивай меня». У меня две дочери, и вот сейчас я так же говорю: «Лучше не задавайте мне такие вопросы». Они раньше спрашивали, но я им не рассказывал все, чтобы и им не было тяжело, чтобы не вспоминали. Но, когда я им объяснял, это всегда было по-другому, не так, как с вами сейчас – я стараюсь отвечать честно.
Эти два месяца оставили боль в душе, воспоминания. Честно сказать, когда я ступаю на землю в Приднестровье, начинаю дрожать, эмоции очень сильные. Особенно в Бендерах – могут и слезы выступить. Потому что я знаю, что там было. Вспоминаю сразу все улицы, кинотеатр «Дружба». Вспоминаю и начинаю дрожать. Если кто-то со стороны посмотрит, скажет, что со мной не все в порядке.
Сейчас это по-прежнему тяжело, после 28 лет. Я пытаюсь не вспоминать. Помню, как я был маленьким, самый младший в семье, постоянно спрашивал отца о войне, как они воевали. У него появлялись слезы на глазах, и он говорил: «Лучше не спрашивай меня». У меня две дочери, и вот сейчас я так же говорю: «Лучше не задавайте мне такие вопросы». Они раньше спрашивали, но я им не рассказывал все, чтобы и им не было тяжело, чтобы не вспоминали. Но, когда я им объяснял, это всегда было по-другому, не так, как с вами сейчас – я стараюсь отвечать честно.
Никогда в жизни не думал [что может быть война], потому что при Советском Союзе мы жили очень хорошо. Был хлеб по 16 копеек, колбаса по 2.10. Был один закон для всех. А сейчас хлеб по 5 леев, завтра по 6, вот сейчас по 7.50. Я думаю, что правительство должно контролировать это все. Я думаю, у нас коррумпированная система, и из-за этого не будет никогда так, как было раньше. Раньше было хорошо. Сел в поезд, вышел в Москве. У меня одна сестра в Москве, другая в Туркмении. Не имеет значения: я молдаван, кто-то болгарин, кто-то гагауз, русскоязычный. Мы все люди. Мы жили при Советском Союзе, потому что мы – братья.
Я не жалею о том, что был там, не жалею ни о чем. Мы шли туда не за деньги. Не для того, чтобы нам дали квартиру или землю. Я не думал о том, чтобы мне за это платили. Я знаю, что отец мне сказал, что это моя родина, моя земля, на которой я родился, и должен защищать от казаков, о них ходили слухи. [Также] была агрессия [со стороны] 14-й армии, из России.
Во время войны я получил ранение от взрыва гранаты в руку. Хотел остаться в полиции, в ОМОНе, прошел медкомиссию, но хирург сказал, что с моим [травмированным] указательным пальцем меня не возьмут, в полиции должны быть достойные люди, красивые. А когда воевали, не спрашивали про ранения. В общем, не прошел я комиссию и не остался работать. Жалею, конечно, жалею [что не остался в полиции]. Раньше полиция была по-другому воспитана, было другое руководство. Когда видели полицейского, по-другому относились к нему. А сейчас, извините, люди на собак не смотрят так, как на полицию. Или не выполняют свой долг нормально, или… не понимаю. Выросли другие люди. Не та полиция, которую мне бы хотелось видеть. Закон нужен. И человек должен по нему отвечать, если против полиции что-либо сделает.
После войны вначале тяжело было. Работы мало, денег не хватало. Из-за этого и получается, что все недовольны. Вот как сейчас: люди всем недовольны, потому что не хватает 5-6 тысяч на одну семью. Потом я переехал в Кишинев, устроился на работу. После войны в 2002 году окончил юридический университет, а до войны был крановщиком-электриком, такая первая специальность.
Я не жалею о том, что был там, не жалею ни о чем. Мы шли туда не за деньги. Не для того, чтобы нам дали квартиру или землю. Я не думал о том, чтобы мне за это платили. Я знаю, что отец мне сказал, что это моя родина, моя земля, на которой я родился, и должен защищать от казаков, о них ходили слухи. [Также] была агрессия [со стороны] 14-й армии, из России.
Во время войны я получил ранение от взрыва гранаты в руку. Хотел остаться в полиции, в ОМОНе, прошел медкомиссию, но хирург сказал, что с моим [травмированным] указательным пальцем меня не возьмут, в полиции должны быть достойные люди, красивые. А когда воевали, не спрашивали про ранения. В общем, не прошел я комиссию и не остался работать. Жалею, конечно, жалею [что не остался в полиции]. Раньше полиция была по-другому воспитана, было другое руководство. Когда видели полицейского, по-другому относились к нему. А сейчас, извините, люди на собак не смотрят так, как на полицию. Или не выполняют свой долг нормально, или… не понимаю. Выросли другие люди. Не та полиция, которую мне бы хотелось видеть. Закон нужен. И человек должен по нему отвечать, если против полиции что-либо сделает.
После войны вначале тяжело было. Работы мало, денег не хватало. Из-за этого и получается, что все недовольны. Вот как сейчас: люди всем недовольны, потому что не хватает 5-6 тысяч на одну семью. Потом я переехал в Кишинев, устроился на работу. После войны в 2002 году окончил юридический университет, а до войны был крановщиком-электриком, такая первая специальность.
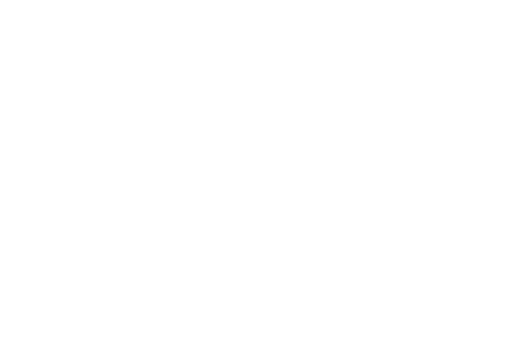
“
Потерял семью, потерял квартиру, потерял всё
Я один из тех ветеранов, кто хочет что-то делать для ветеранов войны, чтобы мы жили хорошо, да и не только мы. И народ, и дети. [Те, кто выходят на протесты] – сейчас это одна группировка, и там есть люди, которые даже не воевали. Считают себя ветеранами войны. Мне жаль, что они получали деньги [за организацию протестов], за которые скоро будут отвечать. Они берут деньги и хотят организовать еще какую-то партию, но у них ничего не получится. К людям нет доверия. Они уже обманывали, в том числе и меня.
В 2016-м, когда назначали правительство Филиппа, меня как председателя организации ветеранов войны сектора Ботаника как-то взяли на крючок и завели уголовное дело. Прошло четыре года и еще первая инстанция не закончилась. Мы, ветераны войны, ни разу не выходили для того, чтобы сломать что-то. Мы помогали полиции, присматривали за агрессивными людьми, отводили их в сторону, чтобы не сожгли ничего, как в 2009 году. Вот для чего мы, ветераны, там. Я был возле коменданта ОМОНа, в их поддержку, потому что пока было недостаточно полиции. Я был постоянно там. Было очень много провокаторов. А сейчас по ним заведено всего четыре уголовных дела. Меня тогда пропустили к парламенту, все в полиции меня знают, я не агрессивный человек. Пускали через все кордоны. Когда я зашел, там в парламенте уже были люди, двери сломаны, все было сломано. А мне потом [в рамках уголовного дела] сказали, что я в полпятого был у парламента, хотя я вообще там не был.
И так получилось, что мне «зашили» уголовное дело. И потерял семью, потерял все. Разошлись с женой из-за этого, квартиру потерял. Не могу я все рассказать. «Спасибо» Нэстасе, платформе «DA»... И вот они нас обманули, сказали, что сделают что-то. В оппозиции было три партии, на кого-то на них открыли уголовное дело? Нашли меня крайнего. Мне очень тяжело. За это и обидно, но не могу покинуть страну – могу, но что-то держит. Обидно, что творится здесь. Но постоянно думаю, что может что-то изменится.
Текст: Михаил Каларашан
Фотопортреты: Михаил Каларашан
Военная фотохроника: Тудор Иову, "Poduri de foc. Сronica în alb-negru a unui război"
Оформление: Кристина Демиан
При поддержке Медиасети
В 2016-м, когда назначали правительство Филиппа, меня как председателя организации ветеранов войны сектора Ботаника как-то взяли на крючок и завели уголовное дело. Прошло четыре года и еще первая инстанция не закончилась. Мы, ветераны войны, ни разу не выходили для того, чтобы сломать что-то. Мы помогали полиции, присматривали за агрессивными людьми, отводили их в сторону, чтобы не сожгли ничего, как в 2009 году. Вот для чего мы, ветераны, там. Я был возле коменданта ОМОНа, в их поддержку, потому что пока было недостаточно полиции. Я был постоянно там. Было очень много провокаторов. А сейчас по ним заведено всего четыре уголовных дела. Меня тогда пропустили к парламенту, все в полиции меня знают, я не агрессивный человек. Пускали через все кордоны. Когда я зашел, там в парламенте уже были люди, двери сломаны, все было сломано. А мне потом [в рамках уголовного дела] сказали, что я в полпятого был у парламента, хотя я вообще там не был.
И так получилось, что мне «зашили» уголовное дело. И потерял семью, потерял все. Разошлись с женой из-за этого, квартиру потерял. Не могу я все рассказать. «Спасибо» Нэстасе, платформе «DA»... И вот они нас обманули, сказали, что сделают что-то. В оппозиции было три партии, на кого-то на них открыли уголовное дело? Нашли меня крайнего. Мне очень тяжело. За это и обидно, но не могу покинуть страну – могу, но что-то держит. Обидно, что творится здесь. Но постоянно думаю, что может что-то изменится.
Текст: Михаил Каларашан
Фотопортреты: Михаил Каларашан
Военная фотохроника: Тудор Иову, "Poduri de foc. Сronica în alb-negru a unui război"
Оформление: Кристина Демиан
При поддержке Медиасети


