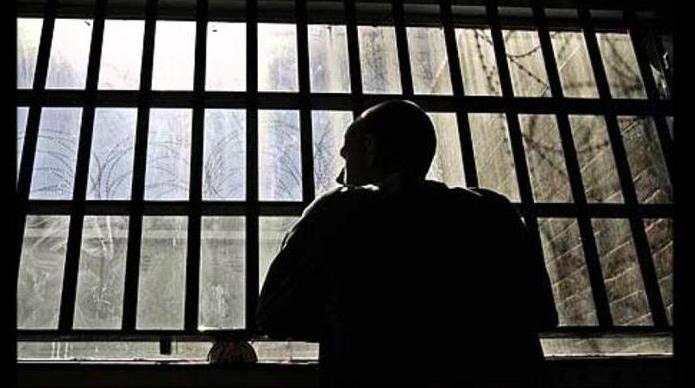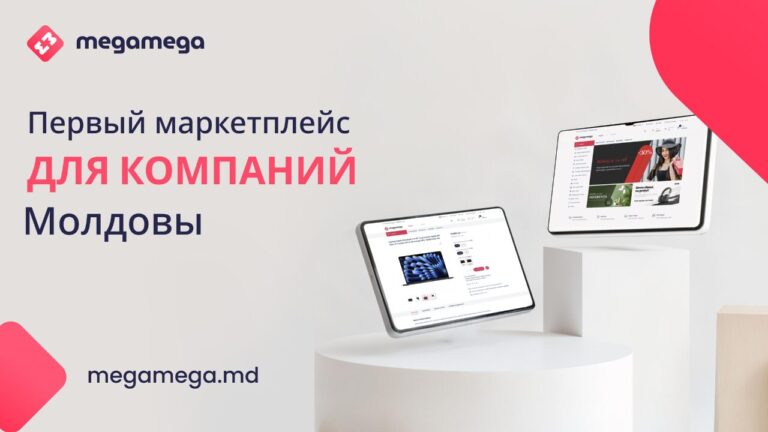Многим кажется, что на выборах 2018 года Молдавии предстоит сделать принципиальный геополитический выбор: между пророссийскими социалистами и прозападными Плахотнюком, Санду или Нэстасе. Но на деле выборы 2018 года вряд ли смогут разрешить старые противоречия и повлиять на соотношение сил в молдавском обществе. Изменить сложившуюся реальность могут только коренные преобразования, экономический рост и уничтожение системной коррупции, пишет в статье для Carnegie.ru научный сотрудник вашингтонского Международного научного центра им.Вудро Вильсона Уильям Хилл, возглавлявший миссию ОБСЕ в Молдове с 1999 по 2001 год и с 2003 по 2006 год. NM публикует вариант статьи на русском языке.
Посредники, участвующие в урегулировании затяжных конфликтов, — например между Молдавией и Приднестровьем, — не могут не быть безнадежными оптимистами. Однако то, что произошло в процессе урегулирования молдавско-приднестровского конфликта в ноябре-декабре 2017 года, как будто внушает новые надежды даже самым разочарованным участникам этих переговоров. Даже тем, чей оптимизм за последние пятнадцать лет совершенно развеялся из-за неуступчивости сторон конфликта и геополитической конкуренции между его международными посредниками и наблюдателями.
В ноябре Кишинев и Тирасполь достигли согласия по пяти из восьми вопросов, которые они сами обозначили как приоритетные в процессе урегулирования. Международные партнеры положительно оценили это событие на последующей встрече формата «5+2» (представители Кишинева и Тирасполя, посредники из России, Украины и ОБСЕ, а также наблюдатели от ЕС и США). В начале декабря Совет министров ОБСЕ в своем заявлении тоже одобрил эти достижения «ориентированного на результат» процесса, подтвердив, что поддерживает урегулирование, направленное на сохранение территориальной целостности Молдавии и получение Приднестровьем особого политического статуса в составе Молдавии.
В последние пятнадцать лет пресса и аналитики все чаще описывают приднестровский конфликт в геополитических терминах — как противостояние прозападного, демократического, международно признанного, стремящегося к интеграции в Европу государства на правом берегу Днестра и авторитарного, коррумпированного, сепаратистского региона на левом берегу, который ориентируется на Россию и пользуется ее поддержкой.
Действительно, Тирасполь и Москва остаются близкими союзниками, тогда как Кишинев сблизился с западными участниками группы «5+2». Однако внутри этого раскола между Востоком и Западом кроется ряд динамичных экономических, социальных и политических факторов, из-за которых и ключевые противоречия, и перспективы разрешения конфликта выглядят совсем не так однозначно. В действительности, начиная с 2016 года в процессе урегулирования удалось выработать общую позицию и наладить координацию между посредниками и наблюдателями, которые призывают Кишинев и Тирасполь к взаимодействию и конкретным результатам.
Нынешний прорыв в приднестровском вопросе происходит на фоне растущей поляризации и обострения внутриполитических конфликтов в Молдавии, усиливающегося в обществе разочарования молдавскими политическими партиями и все более острых дебатов о геополитическом векторе страны. Основное внимание сейчас приковано к парламентским выборам, которые должны пройти в Молдавии до конца года — вероятно осенью.
С тех пор, как в конце 2016 года президентом Молдавии был избран пророссийский политик — лидер Партии социалистов Игорь Додон, — между правительством и президентом идет почти беспрерывный конфликт. В парламенте и правительстве доминирует якобы прозападная Демократическая партия Молдовы во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого многие обвиняют в том, что он использует свое состояние для удержания власти и манипулирует государственным аппаратом ради личной выгоды.
Плахотнюк, его партия и подконтрольное ему правительство утверждают, что следуют проевропейским курсом. Но две крупнейшие молдавские центристские и правоцентристские группы — партия «Действие и солидарность» и платформа «Достоинство и правда», возникшие в результате массовых демонстраций зимой 2015–2016 года как против социалистов, так и против действующего правительства Дампартии, — жестко оспаривают эти заявления Плахотнюка и его команды.
В результате этого внутриполитического напряжения местные представители посредников и наблюдателей формата «5+2» были вынуждены встречаться с президентом, премьер-министром и спикером парламента, чтобы попробовать добиться от Кишинева единой позиции на переговорах.
Как голосование на президентских выборах 2016 года, так и последние опросы общественного мнения показывают, что страна разделилась практически поровну между сторонниками прозападного и пророссийского курса. Удивляться здесь особенно нечему: эти фундаментальные разногласия существуют в молдавском обществе с середины 1990-х.
В соответствии с конституцией и законодательством, Молдавия должна провести парламентские выборы до конца 2018 года. Учитывая недавние значительные перемены в избирательной системе и глубокий политический раскол, результаты этих выборов предсказать сейчас очень трудно, а геополитические ставки высоки как никогда. Результат предстоящей политической борьбы может перечеркнуть все последние достижения в процессе урегулирования приднестровского конфликта, который остается постоянным источником неопределенности и нестабильности в регионе.
Прогресс по линии «5+2»
Во время председательства Швейцарии (2014) и Сербии (2015) в ОБСЕ был выработан «ориентированный на результаты» подход к приднестровскому конфликту, а при председательстве Германии (2016) и Австрии (2017) он успешно воплощался в жизнь. В результате к ноябрю 2017 года удалось разрешить ряд практических проблем, которые многие годы провоцировали разногласия между Кишиневом и Тирасполем.
В июне и декабре 2016 года на встречах в Берлине и Гамбурге Молдавия, Приднестровье и другие участники формата «5+2» договорились сначала сосредоточиться на урегулировании конкретных противоречий между Кишиневом и Тирасполем, а потом перейти к переговорному процессу на более высоком уровне. Члены группы «5+2» в целом поддержали позицию, которую ОБСЕ занимает с 1993 года: Приднестровье должно быть частью Молдавии, но с особым политическим статусом.
В то же время окончательное рассмотрение вопроса о статусе участники решили отложить до достижения конкретных практических договоренностей. Посредники и наблюдатели выступили единым фронтом за реализацию этого подхода, подчеркивающего необходимость прямых контактов между сторонами конфликта на экспертном уровне. Миссия ОБСЕ организовала «челночную дипломатию», позволяющую при необходимости, когда специалисты оказываются в тупике, привлекать более высокопоставленных руководителей из Кишинева и Тирасполя.
Главным предметом переговоров 2016–2017 годов был пакет из восьми проблем (хотя обсуждались и другие). По сути, это набор практических социальных, экономических и административных вопросов, порождавших взаимное недоверие между Кишиневом и Тирасполем с самого начала конфликта. Вот эти вопросы: (1) должны ли дипломы и другие документы, выданные приднестровскими властями, признаваться в Молдавии и других странах, и если да, то в каком порядке; (2) должны ли автомобильные номера, выданные Тирасполем, признаваться на международном уровне; (3) каким должно быть лицензирование и регулирование телекоммуникаций в Приднестровье; (4) как должна быть устроена совместная работа Тирасполя и Кишинева по определению и реализации экологических стандартов в бассейне Днестра; (5) как избавиться от уголовных дел, которые были заведены после взаимных обвинений молдавских и приднестровских чиновнков; (6) как предусмотреть гарантии работы школ на латинице в Приднестровье под юрисдикцией молдавского министерства образования; (7) как гарантировать фермерам, живущим на территории Молдавии, возможность засеивать и обрабатывать земли в Приднестровье; (8) как гарантировать свободу передвижения людей, товаров и услуг между двумя территориями (такие гарантии уже предусмотрены во многих совместных заявлениях и соглашениях сторон конфликта) — прежде всего это касается возобновленного движения по мосту Гура-Быкулуй (в 2001 году мост, поврежденный во время боев начала 90-х, восстановили, но не открыли для проезда).
Все эти вопросы могут показаться смешными, мелкими и даже элементарными. Тем не менее участники переговоров и с молдавской, и с приднестровской стороны демонстрируют поразительное упрямство и никак не могут договориться об очевидных (по крайней мере, для сторонних наблюдателей) решениях. Разногласия, впрочем, вызывает не сама суть этих вопросов, а взаимное нежелание пойти даже на малейшие уступки, каждая из которых, как опасаются обе стороны, может ослабить переговорные позиции в ключевых вопросах о статусе и полномочиях.
Подобные страхи усугубляются глубоким недоверием между правящими элитами Молдавии и Приднестровья, сложившимся на фоне долгой истории невыполненных соглашений и обещаний обеих сторон. Даже сейчас они либо отказываются обсуждать ключевой вопрос о статусе, либо воспроизводят свои максималистские требования: Тирасполь говорит о независимости, а Кишинев — о необходимости распространить полную юрисдикцию Молдавии на всю территорию Приднестровья.
Однако, несмотря на прошлое недоверие и уклонение от обязательств, к началу ноября 2017 года переговорщики из Кишинева и Тирасполя подписали соглашение об открытии моста Гура-Быкулуй, и в середине ноября движение по нему действительно возобновилось. Ряд инвесторов, в том числе из ЕС, пообещали выделить дополнительные средства на ремонт крупной автодороги от Черного моря к Балтийскому, которая проходит по этому мосту. В теории это позволит значительно нарастить торговые потоки в регионе.
25 ноября 2017 года в старом речном порту Тигина (Бендеры), где шведский король Карл XII скрывался после Полтавской битвы, представители Приднестровья и Молдавии подписали четыре протокола, которые позволяют урегулировать вопросы о работе румыноязычных школ в Приднестровье, о признании приднестровских дипломов, о лицензировании и работе телекоммуникационных компаний и о доступе молдавских фермеров к приднестровским землям.
Затем, 27–28 ноября, прошла формальная встреча в формате «5+2», а 7–8 декабря — заседание Совета министров ОБСЕ в Вене. На обоих мероприятиях новые достижения были оценены положительно, а на участников приднестровского урегулирования возложены обязательства и дальше руководствоваться тем же подходом и продолжать поиск решений.
Что позволило добиться таких заметных успехов после многих лет стагнации, препирательств и почти полного отсутствия какого-либо прогресса? Во-первых, необходимо признать заслуги председателей ОБСЕ с 2011 года: им удалось возродить формат «5+2», поддерживать его работу в проблемные и неспокойные годы и, наконец, за время председательства Германии и Австрии выработать и сохранить последовательный, слаженный подход к управлению конфликтом.
Во-вторых, Россия, несмотря на противостояние с ЕС и США по поводу войны на Украине, придерживалась сложившегося политического консенсуса об урегулировании приднестровского вопроса — в частности, что нужно добиваться практического примирения между Кишиневом и Тирасполем, при этом продолжая считать Приднестровье частью Молдавии, а не независимым государственным образованием.
В-третьих, политические и экономические перемены в Приднестровье, а также вступление в действие соглашения об ассоциации Молдавии и ЕС, похоже, существенно изменили политические расчеты Тирасполя.
Геополитический кризис, разворачивающийся сейчас в Европе, безусловно, влияет на процесс урегулирования в Приднестровье, но влияет не таким очевидным образом, как кажется некоторым. События на Украине остановили работу форумов НАТО, ЕС и России, где шло конструктивное обсуждение и принимались совместные решения. После учреждения специальной мониторинговой миссии и приграничной миссии ОБСЕ на Украине значимость организации заметно выросла — не потому, что укрепилась ее репутация или эффективность, а потому, что это единственная площадка, где Россия и западные переговорщики могут встречаться как равные. Вероятно, в том числе поэтому крупные европейские державы, такие как Германия и Италия, в последнее время добивались — и добились — председательства в ОБСЕ.
С некоторого времени Берлин возлагает на разрешение молдавско-приднестровского конфликта больше надежд, чем на другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве. Германия, а затем и Австрия обнаружили, что по ряду причин Россия в значительно большей степени заинтересована в договоренностях по приднестровскому вопросу, чем по конфликтам на Украине или в Грузии. Еще с 2008 года Москва рассматривает молдавско-приднестровский конфликт совсем не так, как проблему Абхазии или Южной Осетии, и последовательно отказывается поддерживать надежды Тирасполя на независимость и международное признание.
Хотя российские переговорщики в Молдавии нередко критикуют западных коллег с процедурной и тактической точки зрения, Россия продолжает участвовать в формате «5+2» и все еще поддерживает консенсус ОБСЕ 1993 года о контурах возможного политического урегулирования. Для Москвы главная цель, очевидно, не в том, чтобы поддержать непризнанную Приднестровскую республику, а в том, чтобы заручиться большим влиянием во всей Молдавии с расчетом на дружественное отношение со стороны Кишинева.
Россия продолжает оказывать Приднестровью долгосрочную финансовую помощь — в первую очередь, в форме бесплатных поставок газа. Однако, судя по всему, Москва сокращает или даже останавливает прямые денежные субсидии, от которых бюджет Приднестровья и социальные выплаты в республике зависели как минимум с 2006 года. Так что молдавско-приднестровский конфликт может оказаться той точкой, где мировые державы будут готовы рискнуть и пойти на уступки, не воспринимая эти компромиссы как угрозу их политическим интересам в других регионах.
В последние десять лет состояние приднестровской экономики постоянно ухудшается. На левом берегу Днестра в целом те же социально-экономические проблемы, что и на правом — массовая эмиграция трудоспособного населения и острая зависимость от переводов из-за границы. При этом когда-то довольно мощные приднестровские промышленные предприятия под управлением когорты «красных директоров» сейчас пришли в упадок; крупных заводов в регионе осталось немного, и их финансовое положение оставляет желать лучшего.
В экономике Приднестровья сейчас доминирует олигархическая корпорация «Шериф», контролирующая активы в торговле, телекоммуникациях, энергетике, секторе услуг и спорте. (Тираспольский футбольный клуб «Шериф» представляет страну в Лиге чемпионов УЕФА, ему принадлежит лучший в Молдавии стадион.) «Шериф» начинал с контрабанды и работы на черном рынке, но сейчас он достиг такой стадии развития, когда дальнейшая экспансия и даже просто поддержание доходов на нынешнем уровне потребуют выхода за пределы Приднестровья — в Молдавию, а может быть, на Украину и в Румынию. В свою очередь, для этого нужно определенное международное признание.
Благодаря быстрому росту в 2000-е годы «Шериф» начал играть доминирующую роль в приднестровской политике. Его представители получили большинство в парламенте Приднестровья уже к 2005 году. Евгений Шевчук, спикер приднестровского Верховного совета в середине 2000-х годов, начал свою политическую карьеру в качестве ставленника «Шерифа», но в 2011 году выиграл президентские выборы, взбунтовавшись против «Шерифа» и Игоря Смирнова, лидера Приднестровья еще с 1990-х. Тем не менее сегодняшний глава Приднестровья Вадим Красносельский, победивший на выборах в конце 2016 года, прочно ассоциируется с «Шерифом».
У этого конгломерата, который контролирует и приднестровский парламент, и президентский пост, судя по всему, сложились неплохие рабочие отношения с Россией. В то же время очевидно, что «Шериф» был создан не в Москве, и экономические и политические интересы группы не вполне совпадают с российскими.
Красносельский все еще зависит от Москвы (и ее запретов на определенные кадровые или политические решения), но он и его главный переговорщик Виталий Игнатьев, твердо и настойчиво добиваются конкретных результатов в повседневной жизни жителей Приднестровья за счет прямых контактов с Кишиневом и переговоров на уровне экспертных групп. Власти Приднестровья также провели продолжительные переговоры с Молдавией и ЕС и пошли на заметные уступки, благодаря которым приднестровские предприятия могут разделить с молдавскими преимущества Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Молдавией и получить формальную регистрацию в Молдавии.
Однако если Россия, участвуя в переговорах «5+2», поддерживает рамочный подход ОБСЕ, то Тирасполь прямо не отказывается от ранее обозначенных им амбиций и видит конечной целью переговоров независимость и международное признание Приднестровья. Общее согласие с подходом, который ОБСЕ выработала под руководством Германии и Австрии, и последние договоренности о восьми практических проблемах Тирасполь объясняет необходимостью поправить социально-экономическое положение и благосостояние населения, а вовсе не готовностью признать себя частью Молдавии.
Сразу после декабрьской декларации Совета министров ОБСЕ по итогам заседания группы «5+2» министерство иностранных дел Приднестровья опубликовало собственное заявление, подчеркивающее, что Тирасполь не участвовал в заседании ОБСЕ и не согласовывал принятую там декларацию, особенно в части территориальной целостности Молдавии. Так что теперь, когда группа «5+2» переходит от конкретных практических вопросов к будущим договоренностям о статусе, остается неясным, насколько Приднестровье будет готово к дальнейшему сотрудничеству.
Перспективы переговоров в формате «5+2» после перехода председательства в ОБСЕ к Италии выглядят неоднозначно. Посредники сыграли важную роль в достижениях 2016–2017 годов, поскольку прямые переговоры между молдавскими и приднестровскими переговорщиками не всегда складывались удачно. В начале января вице-премьером по реинтеграции и главным переговорщиком от Молдавии стала Кристина Лесник, молодая чиновница из министерства внутренних дел. Пока рано говорить, изменит ли что-то в процессе переговоров это назначение.
Сразу после инаугурации президент Додон встретился с Красносельским, а затем с Путиным для обсуждения приднестровского вопроса и заявил, что урегулирование — один из его приоритетов. Однако возможно, что ключевую роль в процессе урегулирования сыграют отношения не между Додоном и Красносельским, а между Демпартией и «Шерифом». Летом и осенью инициатива в приднестровском вопросе, похоже, перешла к Плахотнюку. Сообщалось, что он более активно занимается этой проблемой и вступил в прямой контакт с группой «Шериф».
Путин, скорее всего, предпочел бы работать по урегулированию приднестровского конфликта с Додоном, но, учитывая политическую борьбу в Молдавии, Плахотнюк может оказаться единственно возможным партнером Москвы на правом берегу Днестра.
Молдавская политика: глубокий раскол
В общепринятом представлении политика в современной Молдавии выглядит так: в парламенте заседает проевропейское большинство во главе с Демократической партией Владимира Плахотнюка, правительство во главе с Павлом Филипом, сторонником Плахотнюка, также придерживается проевропейского курса, но им обоим противостоит пророссийский президент Игорь Додон. В каком-то смысле все так и есть, но эта картина не позволяет в полной мере понять текущие проблемы и перспективы молдавской политики. Чтобы вникнуть в нюансы и причины текущих политических баталий в Молдавии, нужно обратить внимание на несколько важных долгосрочных тенденций и проблем в молдавском обществе.
После получения независимости в 1991 году молдавское общество в своих симпатиях практически поровну поделилось между Западом и Востоком. Согласно опросам, долгое время самой популярной политической фигурой в Молдавии был Владимир Путин. Даже сейчас, как показал последний «Барометр общественного мнения», опубликованный кишиневским независимым Институтом публичной политики, 47% молдаван готовы проголосовать за присоединение к ЕС, а 42% — за вступление в Евразийский экономический союз (а если прямо поставить вопрос о выборе между ЕС и ЕЭС, то за первый вариант высказываются 38%, а за второй — 32%). Почти 22% говорят, что готовы проголосовать за объединение с Румынией (значительно больше, чем десять лет назад), однако 33% поддержали бы присоединение Молдавии к Российской Федерации. Можно заключить, что все больше молдавских избирателей требуют от элиты не геополитических лозунгов, а конкретных результатов.
Эти показатели вполне соответствуют другим опросам и результатам выборов за последние двадцать лет, и, скорее всего, дело здесь не в российских информационных кампаниях. Доля русскоязычного населения в Молдавии всегда была значительно выше, чем доля тех, кто считает себя этническими русскими. Многие также традиционно симпатизируют русскому языку и русской культуре, особенно в городах на севере страны, таких как Бельцы, и во многих сельских районах. Кроме того, почти 500 тысяч молдаван сейчас работают в России и пересылают деньги на родину, даже если сами редко возвращаются домой.
Во втором туре президентских выборов 2016 года социалист Игорь Додон набрал 52% голосов в жесткой конкуренции с прозападным кандидатом Майей Санду. Случай вовсе не беспрецедентный: в феврале 2001 года молдавская Партия коммунистов под руководством Владимира Воронина получила больше 50% голосов на парламентских выборах и правила страной последующие восемь лет.
Если несколько упростить, то левые в молдавской политике склонны занимать пророссийскую позицию, правые — прорумынскую, а большая группа центристов — «промолдавскую», то есть выступают за независимое молдавское государство с какой угодно геополитической стратегией. В постсоветские годы центр смещался то влево, то вправо в зависимости от экономической ситуации и успехов левых либо правых правительств.
Сохранится ли такое положение дел в 2018 году? Вот несколько факторов, от которых это зависит. С момента ноябрьских выборов 2014 года число депутатов от Демократической партии в парламенте удвоилось (с 20 до 41), и Демпартия стала контролировать правящую коалицию. Но все это было организовано так, что репутация партии Плахотнюка пострадала в глазах как молдаван, так и международных партнеров страны.
Народный гнев, вызванный банковским скандалом 2014 года, тоже сказался на репутации Демпартии, хотя главный удар все-таки пришелся по Либерал-демократической и Либеральной партиям — членам предыдущей правящей коалиции с участием Плахотнюка. Действующее правительство во главе с Филипом было сформировано глубокой ночью в начале 2016 года на фоне масштабных уличных протестов против парламентских партий, коррумпированность и некомпетентность которых привели к хищению активов из трех молдавских банков и вызвали серьезные экономические трудности.
В результате этого народного движения («молдавского майдана») возникли две правоцентристские партии — «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда». Сейчас они лидируют в опросах среди проевропейских партий. Хотя у Демпартии в парламенте 41 депутат из 100, ее рейтинг в опросах всего 2,8% (это 5,1% из тех, кто намерен голосовать), и по правилам предыдущей пропорциональной системы она могла бы не набрать достаточно голосов для прохождения в парламент.
Кроме того, по данным последнего «Барометра», больше 30% опрошенных назвали Плахотнюка самым коррумпированным политиком в Молдавии — он опередил всех других публичных деятелей на 20 с лишним процентных пунктов. В рейтинге партий лидируют социалисты под руководством Додона, у них 26%. Если политическая ситуация в Молдавии существенно не изменится, на грядущих выборах Партия социалистов и Додон могут заметно укрепить свои позиции.
Фундаментальная проблема для всех молдавских политических партий состоит в том, что чуть больше половины избирателей по-прежнему поддерживают ориентацию на ЕС и проевропейский курс, но у этих избирателей вызывают отвращение якобы проевропейские политики, оказавшиеся у власти, — они разочарованы нежеланием или неспособностью западных стран заставить этих политиков придерживаться западных ценностей, провозглашенных с таким пафосом. На предстоящих выборах почти наверняка можно ожидать масштабного протестного голосования, неясна пока лишь форма этого протеста.
Один возможный ответ на этот вызов — изменить правила игры, что недавно и сделали Плахотнюк и Додон. В июле, несмотря на прямые возражения ведущих западных институтов — Совета Европы, ЕС и других, — Демпартия и Партия социалистов поспешно провели через парламент фундаментальную реформу избирательной системы. Теперь половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а половина — в одномандатных округах.
Этот шаг вызвал повсеместную критику, так как дает возможность хорошо организованным и хорошо финансируемым партиям (или просто богатым людям), не способным победить в общенациональном голосовании, войти в парламент с помощью покупки голосов и групп избирателей в небольших округах. Считается, что у Плахотнюка и его партии таким образом будет шанс вернуться в парламент, что при предыдущей системе вряд ли произошло бы. Социалисты, в свою очередь, во многом унаследовали общенациональную партийную организацию коммунистической эпохи и поэтому выиграют от реформы больше других партий.
Протеже Плахотнюка — премьер-министр Филип и спикер парламента Андриан Канду, — пытаются внушить разочарованной и скептически настроенной молдавской публике, что именно действующее правительство и парламентская коалиция во главе с Демпартией — это реальные проевропейские силы в стране. Демпартия также наняла лоббистов в Брюсселе и Вашингтоне, чтобы убедить в том же западные страны, часто за счет раздувания российской угрозы.
В том же ключе следует рассматривать усилия правительства и парламента, нацеленные на обострение отношений Кишинева с Москвой. Высылка нескольких российских дипломатов и объявление вице-премьера Дмитрия Рогозина, представляющего Россию в молдавско-российской межправительственной комиссии, персоной нон грата, выглядят попыткой апеллировать к проевропейски настроенным избирателям, а не просто стремлением бороться с российским влиянием.
Попытки премьера Филипа продемонстрировать ЕС свои реформистские устремления осенью 2017 года также, судя по всему, имеют очевидный предвыборный подтекст. Наконец, Плахотнюк, Демпартия и правительство все активнее конфликтуют с президентом Додоном.
Плахотнюк стал гораздо более открыто участвовать в управлении Демпартией и правительством, хотя он и не занимает никаких официальных должностей, кроме поста руководителя партии. Он побывал с визитом в Турции и США и встретился с лидерами ряда других государств. В свое время Плахотнюк добился сравнительно мирного сосуществования с Москвой, но теперь они на ножах. Недавно российские власти потребовали от Интерпола объявить Плахотнюка в международный розыск, обвиняя его в убийстве российского банкира в Лондоне.
Особенно примечательно, что 19 декабря Плахотнюк лично объявил о реорганизации правительства и назначении семи новых министров; бывший премьер Юрий Лянкэ стал вице-премьером по европейской интеграции. Демпартии пришлось привлечь Конституционный суд, чтобы обойти вето президента Додона (тот отказался согласовывать новых министров, утверждая, что они были вовлечены в мошенническую банковскую схему во время работы предыдущих правительств). Суд временно приостановил полномочия Додона, и спикер Канду как исполняющий обязанности президента подписал указ о вступлении в должность новых чиновников. В свое время такая же процедура была использована для утверждения члена «Европейской народной платформы» (партия Лянкэ) в должности министра обороны.
Плахотнюк объяснил этот шаг необходимостью сформировать «правительство технократов», которое сможет провести реформы, избегая предвыборных интриг.
Плахотнюк и Демпартия также использовали временное отстранение Додона от должности, чтобы протолкнуть через парламент и ввести в действие спорный закон о запрете трансляции российских новостных и общественно-политических теле- и радиопрограмм. Закон был представлен как мера защиты молдавского общественного мнения от манипуляции и дезинформации.
Российские СМИ, по-видимому, все же будут доступны молдаванам через кабельные сети, но эта мера может иметь весьма значительный эффект в сельской местности, где и так преобладают СМИ, подконтрольные Плахотнюку. Несомненно, закон будет использоваться не только для того, чтобы помешать России поддержать Додона и социалистов в грядущей избирательной кампании, но и чтобы оттянуть в пользу Демпартии голоса прозападно настроенных избирателей, поддерживающих «Действие и солидарность» Майи Санду или «Достоинство и правду» Андрея Нэстасе.
Выбор 2018 года
Возможно, успехи в приднестровском урегулировании в 2016–2017 годах и вселяют надежду, что Кишинев и Тирасполь приближаются к реальному разрешению конфликта, но лишь 1% молдавских избирателей придают серьезное значение приднестровскому вопросу. Даже если в Молдавии развернется дискуссия на эту тему, то вряд ли обсуждение сосредоточится на сути конфликта или вариантах его разрешения.
Угроза реального, широкомасштабного военного столкновения между Кишиневом и Тирасполем минимальна. Дебаты вокруг Приднестровья и поддержка Тирасполя Россией вряд ли сыграют существенную роль в ходе избирательной кампании 2018 года, разве что как символическое отражение глубинного спора об исконных ценностях и геополитической ориентации молдавского государства.
По мере приближения парламентских выборов 2018 года вновь встает вопрос, в состоянии ли Молдавия провести настоящие реформы государственного управления, экономики и правовой системы. Предыдущие прозападные и провосточные правительства обещали реформы такого рода, но их обещания остались невыполненными. Население Молдавии продолжает сокращаться, страна все больше зависит от переводов трудовых мигрантов, а у власти находятся коррумпированные, эгоистичные элиты. Преодоление этой укоренившейся ситуации становится вызовом и для молдавских политиков, и для их внешних партнеров.
Может показаться, что в ходе выборов 2018 года Молдавии предстоит и геополитический выбор. Победа социалистов, несомненно, будет воспринята как успех Москвы. И, наоборот, победа сторонников Плахотнюка, Санду или Нэстасе будет, вероятно, превозноситься как победа прозападных сил. В любом случае выборы 2018 года вряд ли смогут сгладить основные противоречия и повлиять на соотношение различных взглядов в молдавском обществе, которые стабильно демонстрируют выборы на протяжении последних 25 лет. Изменить сложившуюся реальность могут только коренные преобразования, экономический рост и уничтожение системной коррупции.