Надежда молдавской юстиции
Спецпроект NM о людях внутри системы
Надежда Копту
Не все *** одинаковые

Летом 2019 года в стране не только сменилась власть, но изменилось и поведение судей и прокуроров, с которыми приходилось сталкиваться. Они стали более открытыми, и у меня появилась возможность ближе познакомиться с теми из них, кто шел против течения. В какой-то момент я поняла, что долгое время политики, эксперты и даже журналисты смотрели на них только с одного ракурса. Вне поля зрения оставались постоянные стрессы, большой объем работы и личная ответственность за судьбу каждого человека, чье дело у них оказалось.
Это вообще большая ошибка нашего общества. Мы привыкли негативные качества одного человека приписывать всем остальным представителям той или иной общественной или профессиональной группы. Вот обидел нас кто-то и начинается: «все *** плохие». И неважно, что будет вместо этих звездочек — профессия, национальность, политическая ориентация. Суть останется та же: есть у нас привычка делать глобальные выводы по единичному случаю. Эта предубежденность у многих остается на долгие годы.
И эти судьи и прокуроры, которые заставили меня по-другому посмотреть на вещи, тоже поначалу не доверяли журналистам. Они просто устали от того, что СМИ приписывают всей системе негативные качества некоторых ее представителей. В такие моменты я выключала диктофон, а они учились мне доверять. Кто-то рассказывал, что ездит на работу в троллейбусе, кто-то о том, как не продлил арест бизнесмену и столкнулся с угрозами, что «истечет кровью», кто-то — как заставил адвоката жертвы изнасилования потребовать компенсацию за моральный ущерб. Почти у каждого из них есть истории о том, как они сопротивлялись тогда, в 2018 году. Многим до сих пор не могут этого простить. И каждый из них хорошо знает о проблемах системы и хочет с ними бороться. Но эти идеи настолько радикальны, что коллеги этих судей, прокуроров и адвокатов обходят их стороной, опасаясь навлечь беду и на себя.
Окончательно я убедилась в необходимости показать читателям адвокатов, судей и прокуроров с другой стороны зимой 2020 года. Тогда мы больше двух часов говорили с одним прокурором о том, как все устроено в прокуратуре, что делать с системой, нужна ли внешняя аттестация. Под конец разговора он вдруг решил рассказать мне о единственном оправдательном приговоре в его карьере.
История была такая: в пригороде Кишинева снесли забор, который был частью архитектурного памятника, а на его месте построили новый. Прокурор выяснил, что снос был незаконным, а деньги на новый забор из бюджета мэрии заплатили родственнику мэра, к тому же с нарушением закона. Несмотря на собранные доказательства, мэру удалось избежать уголовной ответственности. Он просто «договорился с судьями». И вот пока этот прокурор рассказывал мне, как он выяснял, был ли снесенный забор частью архитектурного памятника, у него так горели глаза, что я подумала: как жаль, что люди не знают о таких прокурорских историях.
Ну и, конечно, мне хотелось бы, чтобы этот спецпроект получил отклик и в системе юстиции. Чтобы герои этого проекта нашли необходимую поддержку среди своих коллег и смогли изменить систему. Как-то одна судья в личной беседе сказала мне: «Я, как маленький ребенок, верю, что справедливость восторжествует. Да, это звучит наивно, но мне хочется в это верить». И мне тоже хочется верить, что все получится.
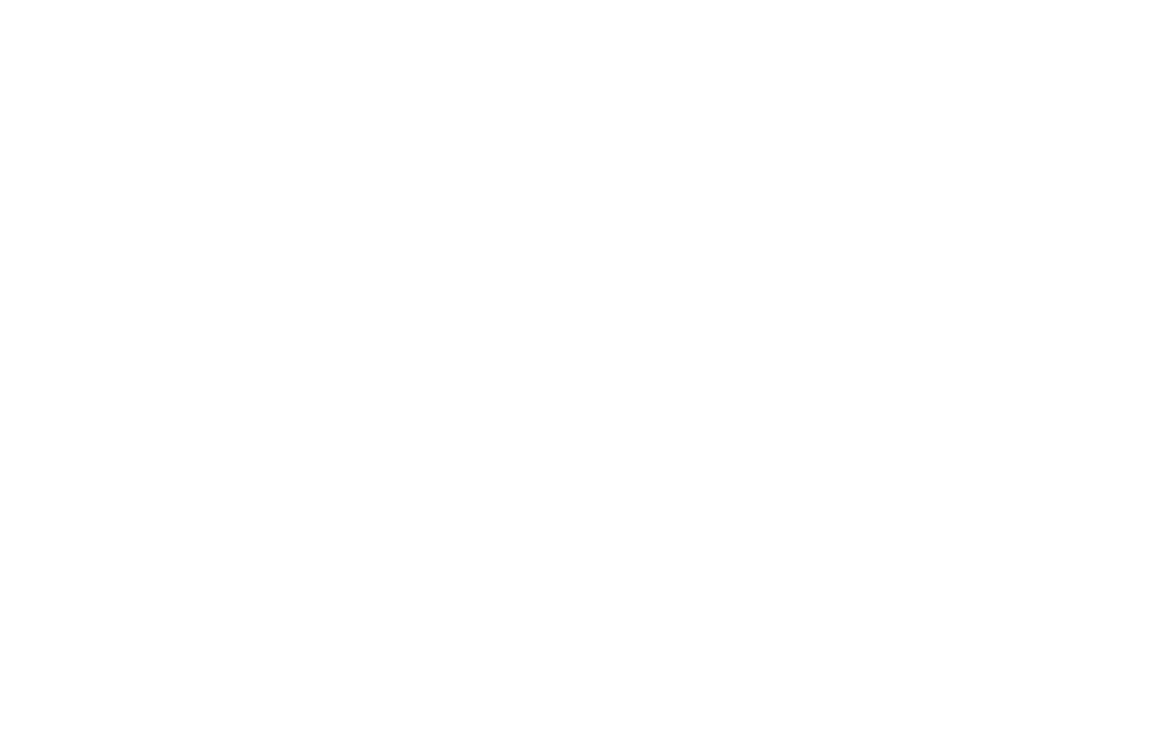
О реформе правосудия в Молдове говорят более 10 лет. Политики и эксперты в основном говорят о юстиции, как о системе, которая противодействует переменам. Но внутри этой системы работают люди, многие из которых хотят сделать ее лучше, отстаивают свои принципы и не боятся идти против течения. В первом выпуске #JusticeInside судья столичного сектора Центр Ливия Митрофан рассказала, как политики пытаются взять под контроль судебную систему, чего не хватает молдавским судьям, и почему она против внешней аттестации.
Когда я училась в университете, считала судей богами с мощным интеллектом. Я и не думала, что со своими способностями стану судьей. После университета я почти четыре года проработала в министерстве юстиции, а потом решила, что мне больше подходит адвокатура. Вскоре я поняла, что не смогу вести дела, если буду знать, что мой подзащитный не прав. Тогда я решила поступить в Нацинститут юстиции [и стать судьей]. Подумала тогда: если не поступлю, больше не буду пытаться, но я поступила с первого раза. А после окончания учебы выиграла первый же конкурс на должность судьи. Я тогда была на седьмом месяце беременности, но для Высшего совета магистратуры (ВСМ) при назначении меня судьей это не стало помехой. Я родила через несколько дней после того, как принесла присягу, и 10 месяцев провела в декрете.
«В системе было очень много страха»
Весной 2018 года я вышла на работу в коллегию по уголовным делам суда Чекан. В первом деле, которое мне распределили, обвиняемый находился под предварительным арестом. Прокурор хотел, чтобы это дело объединили с другим и передали другому судье. Но ходатайство об объединении дел отклонили, и дело вернули мне. За это время истек срок, когда можно было подавать ходатайство о продлении ареста, и я это ходатайство отклонила. После того как обвиняемого по делу выпустили, он убил двоих. Один из них был братом моей бывшей коллеги, c которой я работала в минюсте. Я тогда не спала две недели.
Вообще нет сложных и простых дел. Одно дело может показаться простым, а потом отразиться на всей твоей жизни. А может быть сложное дело, которое тебя не заденет.
Мне еще сложно от того, что я все принимаю близко к сердцу. Каждый день я задерживаюсь на работе, а, когда прихожу домой, продолжаю думать: «Что бы еще почитать по делу, чтобы принять правильное решение».
Может, со временем у меня выработается иммунитет, но для меня каждое дело — очень важное. Я считаю, что быть судьей — значит, защищать закон и права человека и изменять что-то в системе в лучшую сторону.
Если говорить о системе, до лета 2019 года в ней было очень много страха. Как чувствовался этот страх? Коллеги говорили шепотом, о некоторых вещах вообще предпочитали не говорить. И я стала размышлять: вот мы постоянно жалуемся на реформы, на изменение законов, но почему ничего не делаем? На это коллеги отвечали: «Судья должен судить, но не должен вмешиваться в процесс управления [судебной системой]». Получалось, что возможность высказаться была у председателей судов и Высшего совета магистратуры (ВСМ), а судьи молчали. Хотя судьи — представители судебной власти, а ВСМ — это орган самоуправления. Тогда я решила, что надо что-то менять. Я стала писать в Facebook о некоторых вещах. Сейчас за моими постами следят коллеги, гражданское общество, темы обсуждают. Я убеждала и других судей быть активнее. Мы стали общаться с судьями из Румынии. Они говорили: «Да, судья должен рассматривать дела, но, когда его независимость под угрозой, он должен выйти из этого поля и начать продвигать какие-то ценности».
Все начинают с разговоров о коррупции, но давайте посмотрим, почему честный судья может быть уязвимым. У нас есть масса проблем. Например, очень большой объем работы, а за несоблюдение процессуальных сроков судью могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Об этом говорят уже лет десять, но никто ничего не делает. Каждый день я задерживаюсь на работе до восьми-девяти вечера. Прихожу домой уставшая. Дома двое детей: один ходит в садик, другой — в школу, они хотят общаться. Я четыре месяца работаю без ассистента. Получается, утром ты на заседаниях, потом надо принимать новые дела и еще писать мотивировочные части решений. И так у всех судей: чтобы справиться с объемом работы, ты должен судить быстрее, чем говоришь.
«Политики пытаются удержать контроль над судебной системой»
Последние четыре года в суды пришло очень много молодых судей, но в системе почти ничего не изменилось. Может, это из-за этих пяти лет [в Молдове судью сначала назначают на пять лет — это испытательный срок, а потому уже, если решат, что судья ничем себя не запятнал, до 65 лет]. Один коллега сказал мне: «Если мне продлят мандат, тогда я буду активнее, а пока — нет».
Я не боюсь этих пяти лет, хотя в этом году многим судьям не продлили мандат. Многие из этих решений были неожиданными. Одному судье недавно не продлили мандат, прислушавшись к анонимному письму, в котором его назвали «юридически безграмотным». Письмо зачитали на заседании ВСМ. Получается, на любого судью могут написать анонимное письмо, зачитать его на заседании ВСМ — и все?
Сейчас в Молдове примерно две трети судей с «испытательным мандатом». Если внесут изменения в Конституцию [и отменят пятилетний испытательный срок], этим молодым судьям обеспечат стабильность. Но, я думаю, ни одна политическая партия не пойдет на это, так как этот испытательный срок — один из рычагов влияния на судей. Я поверю в их [политиков] благие намерения, когда парламент одобрит [эти изменения в Конституции].
Думаю, все cпоры вокруг судебной системы связаны с тем, что политики пытаются удержать над ней контроль.
Так, осенью 2019 года систему раскололо на две части [часть судейского корпуса провела общее собрания судей, на котором проголосовала за отставку членов ВСМ, другая часть — была против и считала собрания незаконными]. Мы и так не были особо объединены. Я пришла на собрание и сказала: «Так неправильно, давайте всем докажем, что мы можем изменить систему изнутри. Когда мы говорим, что кто-то нарушает закон, мы не должны его нарушать сами». До сегодняшнего дня все судьи обсуждают те собрания: «Вот вы были, вы не были». Так и работает принцип «разделяй и властвуй».
Тогда же, осенью 2019 года, мы сфотографировались перед зданием суда в черных мантиях в поддержку польских судей. На самом деле это был сигнал: «Да, мы поддерживаем польских судей, но и себя сможем защитить». На следующий день к нам приехал министр юстиции и спросил, что нас беспокоит. И тогда никто не воспринял это как влияние. Тогда создали рабочую группу для реформы юстиции. Я тоже в нее входила. Была на встрече с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Была возможность ему сказать, какая у нас позиция.
Сейчас была встреча [c президентом Маей Санду]. Мне странно, что все пишут о том, что я на ней была, но никто меня о ней не спрашивает. У меня создается впечатление, что они [СМИ] хотят не информировать общество, а очернять судей. СМИ написали, что я знакома с [экс-судьей Высшей судебной палаты, членом Высшего совета безопасности] Татьяной Рэдукан. Но я ни разу в жизни с ней не разговаривала. Откуда взялась эта информация, не представляю.
Меня, например, беспокоит продвижение идеи внешней аттестации — это самая жесткая мера, которую можно применить к системе. Как я понимаю, одна ветвь власти будет оценивать другую. В Албании такое было, но там судьи были членами ОПГ, которые занимались торговлей оружием. И в Албании для начала внесли изменения в Конституцию. У нас о такой аттестации можно будет говорить, когда будут предпосылки для изменения Конституции [которые обезопасят судей от произвола]. Но у нас пока и парламентского большинства для изменения Конституции нет.
Когда политик или президент говорят, что судебная система коррумпирована, не представляя доказательств, это как минимум неправильно. Не все судьи коррумпированные. Я тоже хочу видеть доказательства и хочу, чтобы судей, которые берут взятки, привлекли к ответу.
У нас есть Наццентр борьбы с коррупцией, Нацорган неподкупности, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности. Они должны расследовать эти случаи. Если, например, Нацорган неподкупности не работает, надо изменить закон так, чтобы этот орган работал.
«А что о тебе рассказывать? Еду не готовишь, торты не печешь»
Мне хочется изменить не только менталитет судей (чтобы они не считали, что должны молчать), но изменить и отношение к судьям общества. Вот моя мама как-то после встречи с мамой моей одноклассницы сказала мне: «Твоя одноклассница такая хозяйка, она все делает: еду готовит, торты печет». Я спросила маму, а что она обо мне рассказала. Она ответила: «А что о тебе рассказывать? Еду не готовишь, торты не печешь. И что с того, что ты судья? Все о вас плохо говорят. Что вы коррумпированные». И я поняла, что и представление общества надо менять.
Для этого и судьи должны быть более активными, более смелыми, должны не бояться говорить о проблемах в судебной системе. Судьи — не часть стада, которое просто рассматривает дела. Сейчас судебная система должна мобилизоваться. У членов ВСМ в этом году истекают мандаты, мы должны выбрать в совет достойных людей. Нужно, чтобы реформу провели с учетом мнения судей. Нужно, чтобы антикоррупционные органы действительно работали. А политики должны оставить судей в покое. Судьи должны работать без влияния и давления извне. У политиков есть СМИ, которые распространяют их точку зрения, а мы не можем себя защитить. Это неравная борьба.
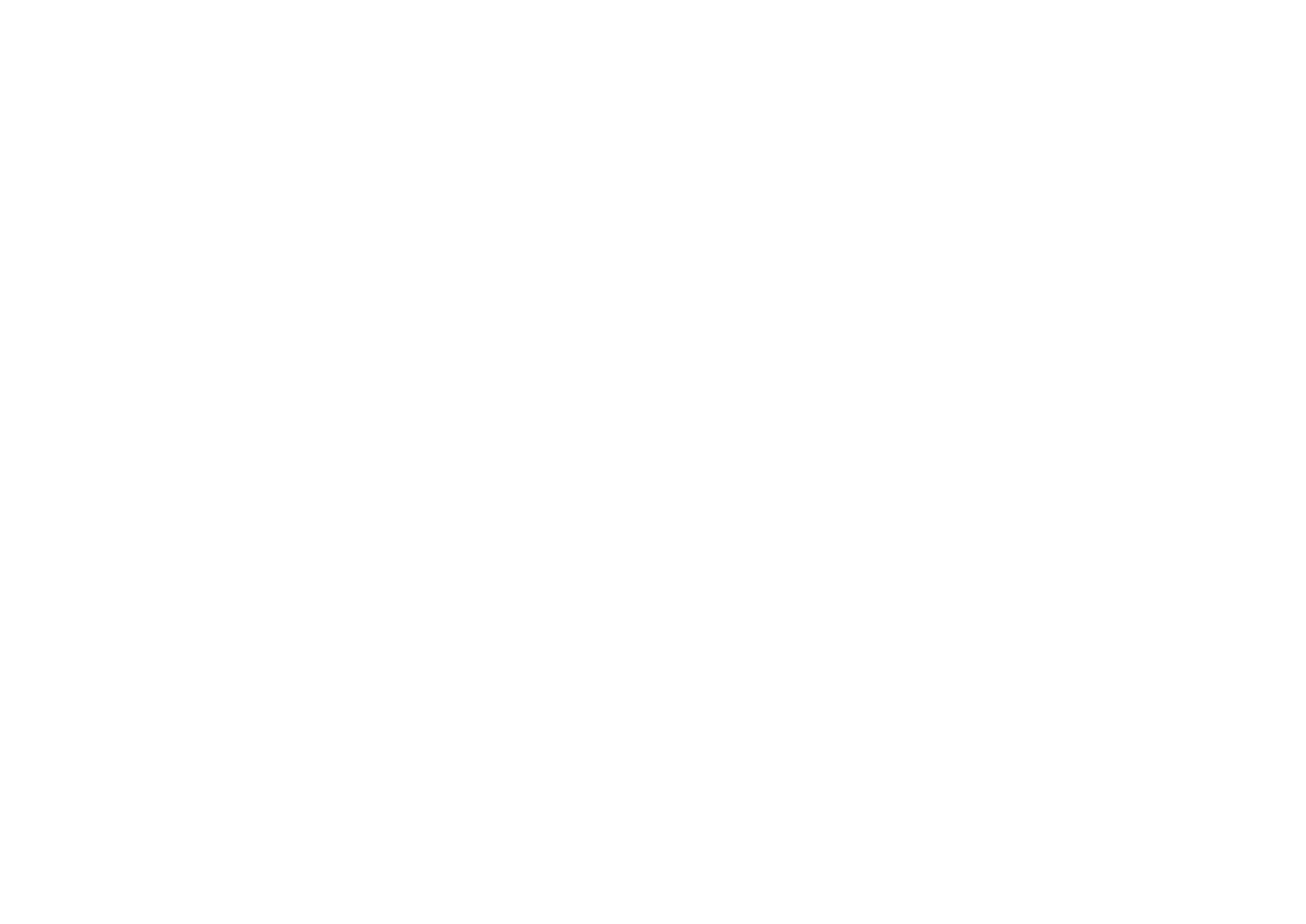
Член Высшего совета прокуроров Инга Фуртунэ решила стать прокурором, прочитав на школьных каникулах несколько полицейских детективов. И после 19 лет работы в прокуратуре не жалеет о своем выборе. NM публикует монолог Инги Фуртунэ, которая рассказала, почему в прокуратуре все не так плохо, как об этом постоянно говорят, о том, сложно ли женщине сделать карьеру прокурора, и какие уроки системе преподал 2019 год.
На втором курсе у нас был спецкурс о работе прокуратуры, который вел первый генпрокурор Молдовы Думитру Постован. Он так говорил о роли прокуроров в обществе и их ответственности за защиту прав человека, что я решила стать прокурором. После первой же лекции сообщила о своем решении подругам. Окончив университет, сдала экзамен в Генпрокуратуре, и меня записали в резерв. Тогда тех, кто сдавал такие экзамены, приглашали на работу, когда появлялись вакантные места.
Ожидая приглашения, стала работать в столичном интернате № 2 юристом по защите прав детей. Я получила там важные жизненные уроки. А в мае 2002 года начала работать в транспортной прокуратуре. До сих пор помню то чувство, с которым первый раз перешагнула порог прокуратуры. Сегодня я прихожу в прокуратуру с тем же энтузиазмом, потому что люблю свою работу, даже если ради нее приходится жертвовать личным временем, а ее выполнение требует значительных усилий.
«Прокуроры изучают не материалы дела, а человеческие судьбы»
Применение закона никогда не происходит по одной и той же формуле. Беседа с любым человеком — не важно, свидетель это, обвиняемый или потерпевший, занимает очень много времени. Надо узнать об обстоятельствах дела и о человеке, чтобы понимать, какие вопросы ему задавать, в каком формате пройдет беседа. Иногда это занимает очень много времени. А бывает, знакомство с материалами дела занимает несколько дней.
На самом деле прокуроры изучают не материалы дела, а человеческие судьбы. Ты должен проанализировать, сопоставить доказательства и соотнести их с законом. Зачастую все это происходит в очень сжатые сроки. Потому что есть сроки, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, даты судебных заседаний. Твой график зависит еще и от графика других людей. Даже если к тебе обращаются с проблемой, которая не связана с работой прокуратуры, у тебя есть моральное обязательство выслушать человека и все ему объяснить. Часто это упускают из вида, когда критикуют прокуроров. Даже если кто-то говорит, что у нас есть честные прокуроры, часто после этого следует обвинительная тирада, и твоя надежда на то, что заслуги прокуроров оценят, рушится.
Каждый человек, приходя в прокуратуру, должен знать, что его внимательно выслушают, а выходить оттуда с ощущением, что ему помогли добиться справедливости. По-настоящему ты становишься прокурором, когда осознаешь личную ответственность за все, что делаешь.
Когда остаешься один на один с жалобой или делом, понимаешь, что от твоего решения зависит судьба человека: какой ответ он получит, применят ли к нему какие-то уголовно-процессуальные действия.
Через три-четыре месяца после того, как я начала работать, мне распределили отчет полиции о мальчике, который повесился. Полицейские рекомендовали это дело закрыть, потому что следов насильственной смерти не было. Я прочитала его предсмертную записку и увидела там достаточно серьезные обвинения, которые он слышал от отца. Я пошла к начальству и предложила открыть уголовное дело против отца ребенка за доведение до самоубийства. И, хотя я только начинала работу, начальство доверило мне самой вести это уголовное дело. Они оценили мое желание посмотреть на ситуацию под другим углом.
Когда я готовила вопросы, советовалась с коллегами: «Вот если он ответит мне так, что потом спросить?» Очень сложно готовить вопросы для родителей, которые потеряли ребенка. Даже если бы сейчас мне досталось такое дело, хотелось бы обсудить его с коллегами, чтобы не упустить ничего важного. Отца мальчика в итоге посадили.
Еще был случай, когда мне надо было прийти с проверкой в полицейский участок и забрать у них регистр, в котором вели учет определенных происшествий. Я знала нормативную базу и все остальное, но вдруг моя коллега говорит: «А ты видела этот регистр № 2»? И принесла мне этот регистр, показала все рубрики. Она не вмешивалась в мою работу, не говорила, как вести себя с полицейскими, но очень помогла мне.
«У меня никогда не было ощущения, что на меня давят»
В 2004 году меня перевели на работу в прокуратуру Ботаники, а с 2010 года я начала работать в управлении по борьбе с пытками при Генпрокуратуре. За все время работы у меня никогда не было ощущения, что на меня давят. Я могу, опираясь на свой опыт, смотреть на ситуацию с одной стороны, а у кого-то из коллег может быть другой взгляд на вещи. Например, тебе могут подсказать какое-то решение ЕСПЧ, в котором рассматривали похожий случай.
Сейчас идет полемика о том, что иерархический контроль [в прокуратуре] — это источник влияния и давления на прокуроров. Хотя еще в 2018 году Консультативный совет европейских прокуроров (КСЕП) отметил, что считает такую практику нормальной, если все распоряжения отдают в письменной форме, а у прокурора есть возможность не исполнять указания начальства, если он считает их незаконными. У нас в законе такое тоже предусмотрено.
В 2017 году меня выбрали членом Высшего совета прокуроров. Это — третий состав Высшего совета прокуроров и первый, когда члены совета из числа прокуроров приостанавливают свою деятельность на время работы в совете. А еще это первый состав совета, в который выбрали женщин [меня и Анжелу Мотузок].
Вообще роль женщины в прокуратуре вызывает много разговоров. Я никогда не сталкивалась с плохим отношением. Во всех коллективах, где я работала, задачи распределяли в зависимости от профессиональных способностей и опыта работы. В прокуратуре женщинам никогда не отказывают в продвижении по службе. Переход из территориальной прокуратуры в специализированную — это тоже продвижение. В таких конкурсах женщины участвуют чаще, чем в конкурсах на руководящие посты. Я всегда поддерживала коллег [женщин], чтобы они немного больше верили в свои силы. Я баллотировалась в Высший совет прокуроров, в том числе потому, что хотела показать своим коллегам [женщинам-прокурорам], что нужно быть более активными.
«2019 год очень жестко повлиял на наше восприятие»
Работа в Высшем совете прокуроров — это большая честь и ответственность, потому что ты представляешь своих коллег в органе самоуправления. Часто это предполагает анализ, который выходит за рамки Уголовно-процессуального кодекса. Нужно знать все о том, что касается карьеры прокуроров: от назначения и повышения до дисциплинарных наказаний.
2019 год очень жестко повлиял на наше восприятие некоторых политических процессов. Тогда членов Высшего совета прокуроров ассоциировали с определенными людьми [Владмимиром Плахотнюком и его приближенными], и эту точку зрения активно тиражировали СМИ. Те, кто это утверждал, никогда с нами не общался, чтобы понять, какие именно люди работают в совете. Это были декларативные заявления.
Как прокурор ты всегда готов к критике. В конфликте, который тебе предстоит разрешить, одна из сторон всегда будет недовольна твоим решением, каким бы законным оно ни было. И все равно сложно было читать некоторые вещи [в СМИ] и знать, что тебя ассоциируют с людьми, которых ты ни разу не видел. При этом ты знаешь, что действовала по закону, и знаешь, что твои решения всегда были обоснованными. Для членов моей семьи это была еще более сложная ситуация. У меня даже был разговор с мамой. Она спросила меня, почему все так говорят, если это неправда. И я ответила: «Очень рада, что ты знаешь, что это неправда».
На заседаниях рабочих групп [по реформе юстиции] нас обвиняли в том, что мы считаем себя выше закона и сопротивляемся аттестации. Мне казалось, что я могла бы сказать: «Я не сопротивляюсь аттестации. Можем хоть сейчас отправиться ко мне домой, чтобы вы убедились. Вы делаете некоторые намеки, давайте посмотрим, как обстоят дела на самом деле».
Тогда не было никого, кто выступил бы в роли медиатора и объяснил нам, чего они добиваются. Объяснил без обвинительного тона, обесценивания некоторых способностей и [явных] сигналов тем, кого касается эта аттестация: «Вы провалили тест, хотя еще не проходили его». Это обесценивает саму суть аттестации. Важно, какие этапы у нее будут, кто войдет в комиссию, кто выберет членов комиссии.
Когда мы опубликовали свое мнение с предложениями поправок к законопроекту о внешней аттестации судей и прокуроров, на нас обрушилась волна критики. На самом деле мы не сопротивлялись ни реформам, ни аттестации. Мы хотели объяснить, что любые изменения должны соответствовать Конституции. Тогда многие говорили, что в Албании такая мера принесла хорошие результаты. Но они не говорили, что в Албании эти меры основывались на изменениях в Конституции. А основанием для этих изменений послужил очень подробный отчет, в котором проанализировали все процессы в системе юстиции. Кроме того, этот процесс длился много лет и столкнулся с разного рода сопротивлением. Действительно, в феврале 2021 года ЕСПЧ признал законным увольнение в Албании судьи, которая не прошла аттестацию, но ЕСПЧ подтвердил, что ее отставка соответствовала Конституции.
Мы должны понимать, что формула, которая дала хороший результат в Албании, может не дать результатов в Молдове. Это не математика, мы не можем просто перенять формулу, мы должны учитывать наши юридические традиции и социальный контекст.
Мы все хотим жить в безопасном мире, знать, что наши права уважают и защищают. Вечером я выхожу с работы и сажусь в троллейбус. Я, как и остальные граждане, хочу чувствовать себя в безопасности, находясь в публичном пространстве. Также я хочу знать, что мой ребенок находится в безопасности, пока идет в школу и пока учится онлайн. Мы должны больше думать о том, что нас объединяет, и вместе прийти к общему знаменателю.
Со стороны кажется, что [очистить систему] легко: пришел новый генпрокурор, выгнал всех, на чей счет есть подозрения, нанял на работу новых, и на следующий день все изменилось. Часто генпрокурор и Высший совет прокуроров сталкиваются с тем, что закон не позволяет им что-то сделать. Есть процессы, которые тянутся долго по закону. Например, против прокуроров, которые занимались незаконной прослушкой, завели дисциплинарные дела. И эти дела дошли до рассмотрения в Высшем совете прокуроров. Это значит, что решения оспорили [на уровне Инспекции прокуроров и Коллегии по дисциплине и этике], но и решения совета — не окончательные, их можно обжаловать в суде. Поэтому мы не можем говорить, что Высший совет прокуроров или генпрокурор чего-то не делают. Этими решениями, как и другими, совет говорит, что отклонение от норм закона никто не будет терпеть.
Сейчас положение дел в системе изменилось: и процессы внутри прокуратуры, и восприятие прокуроров. Вообще за 19 лет прокуратура стала более открытой. Прокурор будет настолько независимым и неподкупным, насколько он осознает необходимость этого. Воспитание чувства ответственности занимает время. Но это должно происходить ежедневно: через все обращения к прокурорам Высшего совета прокуроров, через все решения совета и месседжи Генпрокуратуры. Важный фактор тут — личный пример. Если прокуроры будут знать, что любое продвижение по службе основывается на принципах меритократии [власти достойных], они сами будут стремиться их соблюдать. Да, чтобы это воплотить, необходимы и усилия, и время.
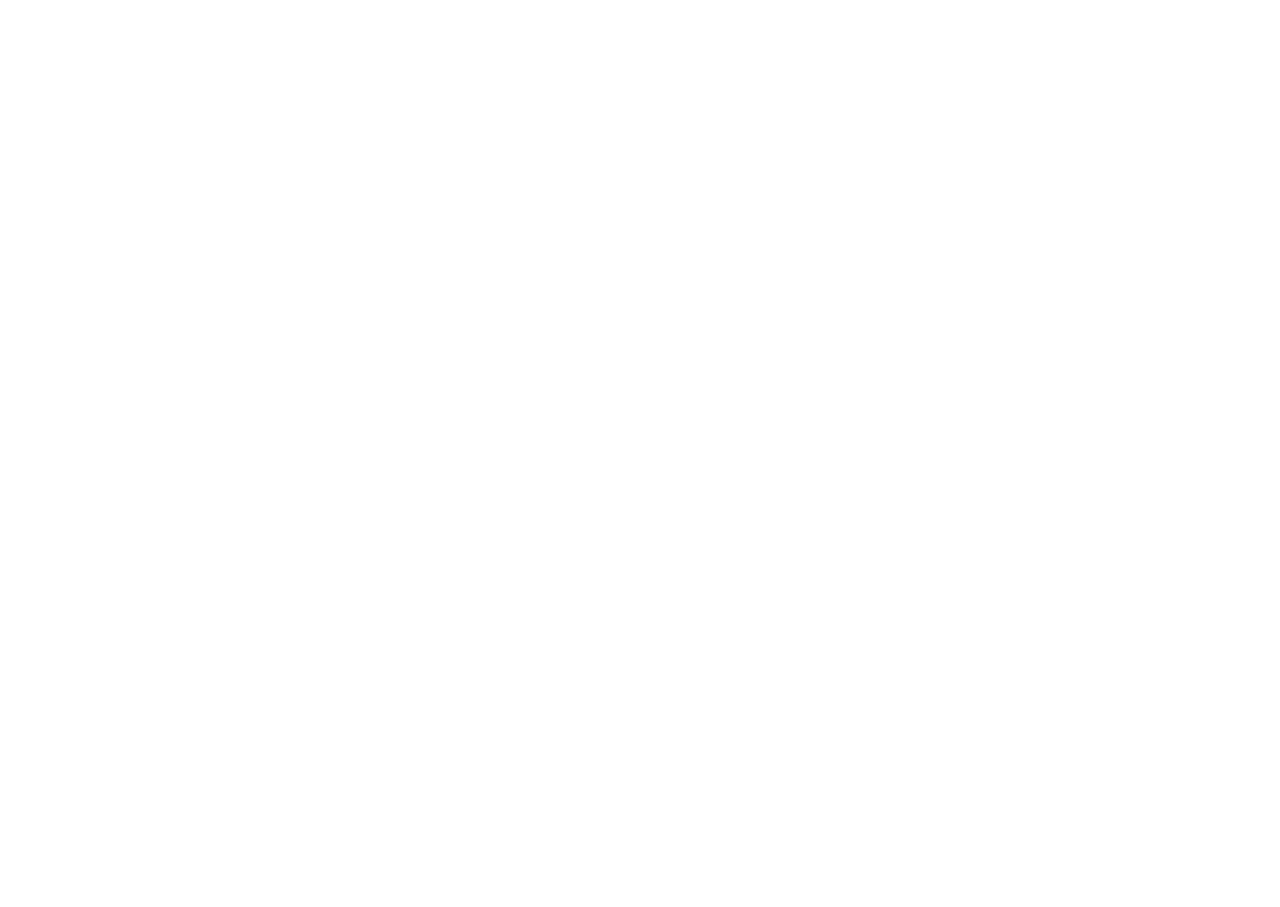
в нашем спецпроекте «JusticeInside. Люди внутри системы».
Поняв, что могу быть дисциплинированным и обязательным, задумался о карьере офицера, но мама уговорила меня поступать на юрфак. На третьем курсе я стал работать ассистентом в правозащитной организации Promo-LEX. Меня вдохновил пример коллег по организации, и я решил стать не просто адвокатом, а правозащитником. Работая в Promo-LEX, я окончил мастерат и получил лицензию адвоката.
«Я остался в коридоре один с пятью детьми»
В том, насколько у нас безжалостная криминальная юстиция, я убедился в 2016 году, взявшись за дело Виктории Прутяну. Речь идет о 24-летней жительнице Страшен, которую избивал муж. У нее двое детей и трое младших сестер на попечении. Все село знало, что она — жертва семейного насилия, но никто не вмешивался: ни полицейские, ни социальные службы. Когда муж в очередной раз начал ее избивать, она стала защищаться и убила его. Это была самооборона, но все ее осуждали.
В день, когда суд должен был огласить приговор по делу Виктории Прутяну, вход в зал суда перекрыл конвой. При этом, судьи еще не удалились в совещательную комнату. Было понятно, каким будет приговор. Конвой не может просто так прийти на заседание суда в Страшенах. Викторию Прутяну приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Полицейские надели на нее наручники прямо в зале суда на глазах у ее детей и младших сестер. Ее увели, а я остался в коридоре с пятью детьми. Позвонил в службу социальной помощи, но мне сказали: «Разбирайтесь сами. Надо было прислать запрос за 30 дней». Я едва не заплакал вместе с детьми.
Конечно, каждое дело сказывается на тебе. Но эта история очень меня затронула.
Стоя в коридоре с детьми, я понял, как наша юстиция может калечить судьбы и убивать людей. Моя подзащитная была жертвой домашнего насилия, и государство должно было ее защитить, [вмешавшись в ситуацию до того, как произошло убийство].
Но этот приговор возмутил общество. Вся страна разбушевалась. Тогдашний министр юстиции [Владимир] Чеботарь публично осудил решение суда, хотя он и не мог повлиять на него.
После этого та же судья решила перевести Викторию Прутяну под домашний арест, до того как дело рассмотрит Апелляционная палата. Последняя частично одобрила наше ходатайство и назначила отсрочку исполнения наказания до тех пор, пока младшему из детей не исполнится восемь лет. В 2020 году судьи решили, что все это время Прутяну хорошо себя вела, и ей нет смысла отбывать наказание.
Проблема домашнего насилия очень актуальна для Молдовы. Во время эпидемии ситуация только ухудшилась. Есть просто страшные ситуации, которые давят на тебя морально. Ты понимаешь, что все это происходит из-за стереотипов, которые сформировались очень давно, но их до сих пор активно продвигают, в том числе политики.
У нас были информаторы, которые рассказали, почему умер Брагуца, и как это пытались скрыть. Мы заявили об этом публично, и власти были вынуждены начать расследование. Хотя до этого все утверждали, что они ни при чем: и МВД, и администрация тюрем, и судья, и прокурор. Все ни при чем. Он сам умер!
Потом они стали давать пресс-конференции и оправдываться. Когда пресс-конференцию дала Администрация тюрем, мы пришли на нее с родственниками Брагуцы и рассказали, как все было на самом деле. Они этого просто не ожидали.
Когда дело получило огласку, они [правоохранители] все равно пытались очернить его имя.
Они слили в СМИ часть видеозаписей задержания Брагуцы. Это была их тактика защиты — показать, что он обижал полицейских. Потом ко мне подошел знакомый из руководства Генинспектората полиции и сказал: «Ты не обижайся, мы так защищались. В деле речь идет об имидже всей полиции, а тут приходишь ты с такими серьезными обвинениями».
Становится страшно, когда осознаешь, что у нас возможны такие ситуации, как история Брагуцы. Страшно от того, что сейчас происходит с этим делом. И судья, и прокурор, которые тогда поместили Брагуцу под арест, сейчас пытаются вернуться в систему. А заседания по уголовным делам, которые открыли против сокамерников Брагуцы, полицейских и врачей, причастных к его смерти, четвертый год подряд ставят на ручной тормоз. Никто не торопится, хотя ООН ждет отчета по делу Брагуцы.
«Неизвестно, доживешь ли до пенсии»
Если бы по делу Брагуцы за мной не было моих коллег из Promo-LEX, мне бы легко закрыли рот. У нас [в Promo-LEX] была ситуация еще сложнее, когда против меня и моих коллег открыли уголовные дела в Тирасполе, признав нас угрозой [для безопасности Приднестровья]. После этого стало сложно работать по нарушениям прав человека в Приднестровье.
Еще один серьезный стресс для адвокатов — процессуальные сроки. Если упустишь срок обжалования, это может сказаться на судьбе человека. Например, если суд первой инстанции приговорил невиновного человека к лишению свободы, а адвокат упустил срок обжалования, человек останется в тюрьме. Поэтому часто приходится работать сверхурочно, чтобы все успеть.
К этому добавляются стрессы, связанные с финансовыми вопросами. Государство, по сути, нас никак не защищает, при этом считает нотариусов, адвокатов и приставов «самыми богатыми» и хочет, чтобы мы платили больше налогов. Когда с предпринимателей удерживали подоходный налог 12%, с представителей юридических профессий удерживали 18%. В 2021 году налог снизили до 12%, но остались другие выплаты. Например, адвокат должен платить в Нацкассу соцстрахования 24 тыс. леев в год. При этом мы можем рассчитывать на минимальную пенсию и пособие по смерти. Но с нашей работой неизвестно, доживешь ли до пенсии.
Есть, конечно, адвокаты, которые работают с крупными международными компаниями, у них хороший доход. А в целом доходы адвокатов — отражение доходов общества. В Молдове у людей очень небольшие доходы, за исключением Кишинева и Бельц. А в селах у людей нет денег, чтобы забор починить. Откуда им брать деньги на адвоката? Проблемы есть, уголовные дела есть, но людям нечем платить адвокатам.
За время эпидемии у нас около 300 адвокатов приостановили лицензии, потому что нет клиентов. Многие получают зарплату за каждое судебное заседание, но из-за эпидемии суды часто приостанавливали работу. Получается, доходов нет, но налоги ты должен платить, за аренду офиса должен платить. Многие уходят в минус и вынуждены приостанавливать лицензию. В конце концов, от этого страдают люди, которые не получают помощь.
«Пусть на меня обижаются судьи и прокуроры»
В самой адвокатуре тоже не все гладко. Но, я уверен, мы сможем решить эти проблемы изнутри. В октябре 2020 года мы выбрали новый Совет Союза адвокатов. Для адвокатов Совет — это что-то вроде правительства. Я думаю, что это — самый репрезентативный Совет за последнее время, и он сможет навести порядок в системе.
Одна из проблем, о которой все говорят, — лицензионная комиссия. Сейчас критерии допуска в профессию очень размытые. Поэтому в профессию попадают люди с сомнительными моральными ценностями. Или бывшие судьи и прокуроры, которые пришли в адвокатуру решить какие-то свои вопросы. Им безразличны и профессия, и права человека. Сейчас они могут получить лицензию, не проходя стажировку и экзамен. Я считаю, что это неправильно. В 2020 году для бывших судей и прокуроров ввели плату за лицензию — 100 тыс. леев. Но ее отменила Апелляционная палата.
Пусть на меня обидятся прокуроры и судьи, но все они должны пройти стажировку и получать лицензию адвоката без всяких привилегий. Не надо платить 100 тыс. леев, пусть проходят через объективные экзамены.
Тех адвокатов, которые нарушают этические и деонтологические нормы, нужно более строго наказывать. В том числе лишать лицензии. Чтобы быть адвокатом, недостаточно хороших профессиональных знаний. Нужны еще неподкупность и принципиальность.
Я всегда честен с клиентами и требую честности от них. Если вижу и чувствую, что клиент мне врет, я не берусь за это дело. Это мой профессиональный принцип. Защищая таких людей, я перестану быть правозащитником. Это будет морально неправильно по отношению к жертвам, которых я защищал.
Но надо сказать, что ситуация с соблюдением прав человека у нас постепенно улучшается. В том, что касается борьбы с пытками, полицейские усвоили урок 7 апреля 2009 года. Тут иногда доходит до других крайностей: полицейские боятся применить силу даже в ситуациях, когда должны это сделать. Например, у них есть законные основания применить силу, когда человек слишком агрессивен. Но они опасаются, что их обвинят в пытках.
С тех пор как из Молдовы «улетел» [Владимир] Плахотнюк, стало меньше предварительных арестов. И тут тоже доходит до крайностей: судьи не применяют арест даже к людям, которых необходимо арестовать. С законодательством, между прочим, у нас все в порядке. Конечно, есть процедуры, которые нужно улучшить, но многое зависит от людей. Проблема не в процедурах, а в общем менталитете.
Вот недавно умер Сергей Косован [Promo-LEX представляет его интересы в ЕСПЧ]. У него была серьезная болезнь — цирроз печени в последней стадии. Его обвиняли в экономическом преступлении. Приговора, который подтверждал бы его виновность, до сих пор нет, при этом Косована два года держали в тюрьме под предварительным арестом.
Некоторые судьи, как роботы, продлевали ему арест, зная, что в тюрьме врачи не смогут ему помочь. Это его и убило.
«Государство само нарушает все нормы»
У нас есть много хороших адвокатов, которых тяжело терять. Очень серьезной потерей для нас была смерть Вячеслава Цуркана [умер 10 марта 2021]. Он был, как отец, для всех адвокатов. Вообще сейчас меньше адвокатов занимаются именно правозащитной деятельностью. Не знаю, почему. Новые в этой сфере не появляются, а те, кто есть, выгорают.
Cвоеобразная мотивиация для нас — это выигрыши в ЕСПЧ. Каждый выигрыш в ЕСПЧ дает нам силы бороться дальше. Ты доказал, что ты и твой клиент правы. Иногда это достаточно сложно сделать, иногда просто. Государство само нарушает все нормы. Мы уже думаем: они нам подыгрывают или действительно такие неподготовленные? Есть некоторые ситуации, когда правозащитники видят нарушения и понимают, что точно выиграют в ЕСПЧ, а судьи и прокуроры до конца настаивают на своей правоте.
Я очень скептически отношусь к идее о том, что положение дел в системе можно исправить с помощью внешней аттестации судей. Ее ведь тоже люди будут проводить. Самая большая проблема в том, что идеи и инициативы реформ исходят не от судей, — их навязывают извне. Тем, кто работает в системе, надо помочь провести реформы, но они сами должны захотеть это сделать. Все, что насильно навязывают, вызывает сопротивление. Судьи сами знают, от кого исходит деструктив, и могут очистить систему от таких людей. Не должны приходить Promo-LEX, другие организации или адвокат Вадим Виеру и говорить им, что и как делать. Мы можем только советовать. У нас есть молодые судьи и очень прогрессивные судьи, которые могут навести порядок в системе.
Марина Русу
«Папа, ты хорошо воспитал свою дочь?»
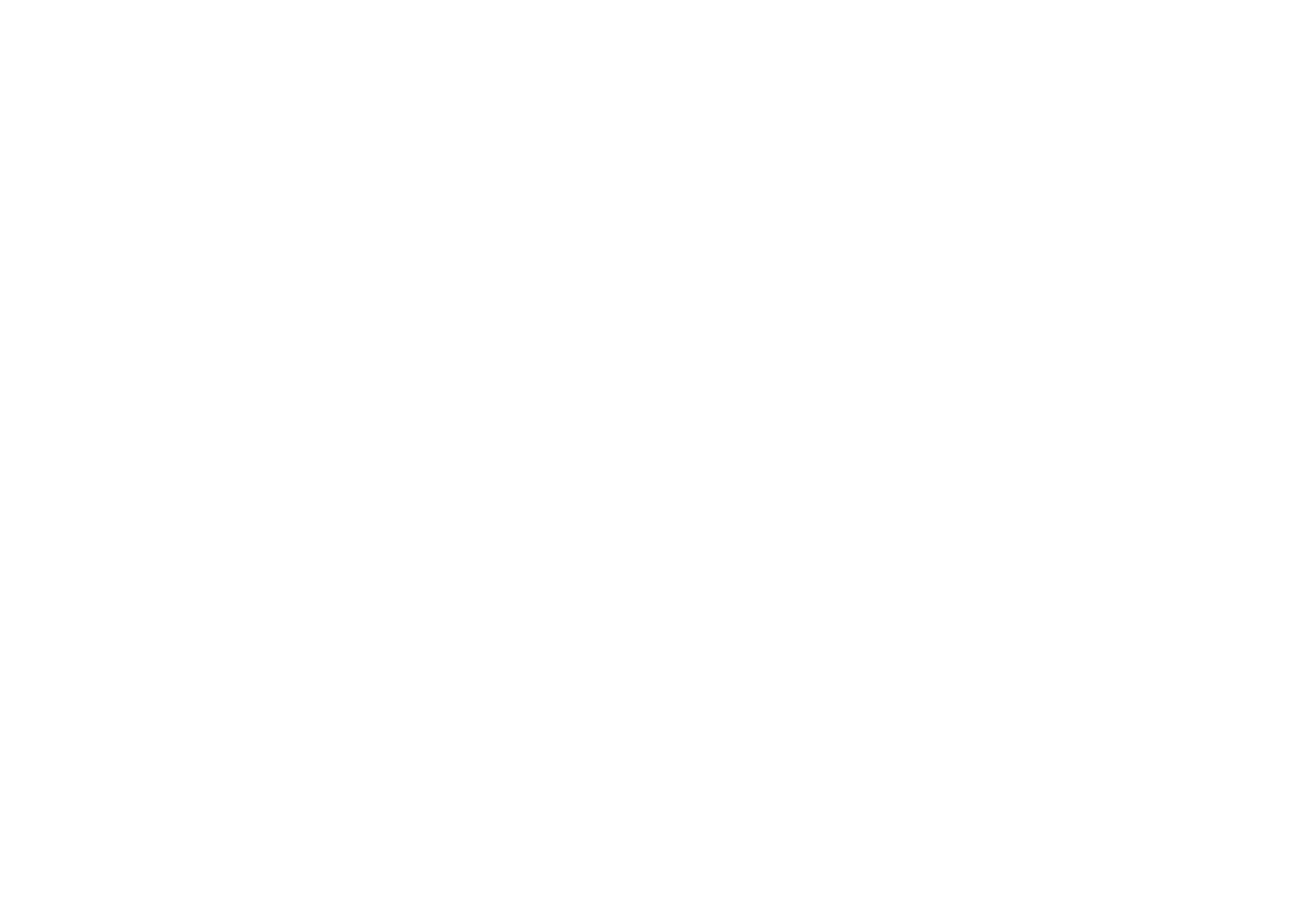
Марина Русу хотела стать адвокатом, но стала судьей. Так сложились обстоятельства. Несмотря на трудности, стрессы, многочасовые поездки на работу в Тараклию и разногласия с Высшим советом магистратуры, Марина Русу ничуть не жалеет, что выбрала этот путь. Продолжая спецпроект «JusticeInside. Люди внутри системы», NM публикует историю судьи, которая рассказала, как она решила сформировать в Молдове «новую формацию» судей, почему работа судьи стоит жертв, и как ей удается в любой ситуации видеть светлую сторону жизни.
Когда стажировалась в адвокатуре, моя подруга, адвокат Оля Терпан, сказала, что я не смогу быть адвокатом. Она никогда не спрашивала у клиентов, виновны ли они. Если бы она знала, что виновны, не смогла бы их защищать. Перед экзаменом на получение лицензии адвоката я сломала ногу и не смогла на него пойти. Это было весной, и я подумала, что буду сдавать экзамен осенью. Оля уговорила меня подать документы в Высший совет магистратуры (ВСМ) и стать судьей.
Тогда я практически не знала румынского языка. Она сказала — ничего страшного, мы будем учить. Помню, когда ездили с ней по делам, я брала комментарии на румынском к Уголовно-процессуальному или Гражданскому кодексам и читала их вслух по пять- шесть часов.
Когда я сказала отцу, что подала документы на должность судьи, он спросил: «Ты что, хочешь быть такой, как все эти взяточники и коррупционеры?» Я ответила: «Папа, ты хорошо воспитал свою дочь? Разве ты не хочешь, чтобы в этой системе был хоть один человек, которому ты доверяешь?»
Присягу я принесла 14 февраля 2012 года и начала работать в суде Тараклии. Через две недели Оля приехала посмотреть, как я устроилась. Когда она возвращалась домой, попала в аварию и погибла. Когда хочется бросить [работу судьи], я вспоминаю Олю, и мне кажется, что это было бы нечестно по отношению к ней. Я часто думаю, что с ней все могло быть хорошо, если бы я не работала в Тараклии, и она бы не приехала тогда ко мне.
«Мы создаем обстоятельства, в которых больше не выгодно так думать»
Когда у меня была юридическая консультация, я видела, как иногда тяжело доказать правоту в суде. Подумала, если не начну это делать сама, не знаю, как смогу доверять судебной системе. Для меня было бы слишком сложно добиваться правды и потом получить судебное решение, неизвестно чем продиктованное. Я же тоже живу в этой стране и многое замечаю.
Сейчас я очень рада, что работаю судьей. Хочу, чтобы справедливость существовала, и люди видели ее реальное воплощение. Лучше, чем с позиции судьи, этого не сделать. Как-то разговаривала с коллегой, который считает, что «закон накладывает на него обязательство быть немножечко формальным». Я говорю: «Ты судья, к тебе приходит множество людей. Твои решения влияют на их судьбы. Ты тот, кто изменяет мировоззрение и правоотношения».
У меня бывали случаи, когда бывший муж установил программу слежки в телефон бывшей жены, или побил ее. И вот они думают, что не сделали «ничего страшного», «с кем не бывает». И когда судья выносит решение по таким делам, он создает обстоятельства, в которых больше не выгодно так думать, потому что такие действия влекут за собой уголовную ответственность.
Недавно я назначила такому агрессору наказание — неоплачиваемый труд в пользу общества. Он очень возмутился, сказал, что он — «уважаемый человек» и предложил, чтобы из его зарплаты ежемесячно вычитали какие-то деньги. Я ответила: «Да, вам будет неудобно и стыдно. Но, возможно, в следующий раз это вас остановит. На это посмотрят другие и поймут, что они могут оказаться на этом же месте».
В другом случае я обязала агрессора носить электронный браслет. Он тоже очень возмутился: «Что теперь про меня люди подумают?» То, есть, если люди ничего не знают о том, что ты бьешь жену, и тебя никто не осуждает, это нормально? Пусть тебе хотя бы будет стыдно от того, что ты будешь ходить с браслетом, и не сможешь близко к ней подходить.
Судьи не должны ограничиваться формальным применением закона. Мы формируем общественную совесть, если правильно понимаем свою роль и берем на себя ответственность за это. Но даже если мы этого не понимаем, то все равно формируем эту общественную совесть, просто со знаком минус.
В 2015 году я переехала жить в Кишинев, но продолжила работать в Тараклии. В 2017 меня временно перевели в суд Криулян, туда добираться намного проще. А в 2018 году я снова стала работать в суде Тараклии. Чтобы добраться на работу, мне приходится проводить в общественном транспорте восемь часов (четыре часа туда, четыре обратно). Это тяжело. Хочется высыпаться, как нормальному человеку, и не тратить столько времени своей жизни на дорогу.
В 2019 году я участвовала в конкурсе на пост судьи в Кишиневе. Хотя я одна претендовала на четыре вакантных места, ВСМ отклонил мое заявление. Я вышла с заседания ВСМ и не могла понять, что произошло. У меня нет дисциплинарных взысканий, на меня не было никаких жалоб. Причины отказа мне не объяснили.
Цель этой ассоциации — формирование новой формации судей, более смелых и ответственных. Не тех, которые ждут, когда им создадут хорошие условия, а тех, кто прямо заявляет: «Так больше невозможно». Они не будут просить у власти создать им условия. Они на правах равного будут настаивать на создании этих условий. Но, чтобы настаивать, нужно понять, что у тебя это право есть.
Я согласилась. Но для регистрации ассоциации нужен был еще один судья. И я позвонила Иону Маланчуку. Знала, что у него двое детей, и думала, что он, скорее всего, решит, что это слишком рискованно: непонятно, как отреагирует судейское сообщество и Высший совет магистратуры. К тому же Виктория Сандуца была первой судьей, которая дала интервью и потребовала отставки всего Высшего совета магистратуры. Но оказалось, что у Иона Маланчука тоже была такая мечта. Но он не знал, с кем можно попробовать ее осуществить.
«Очистить систему от коррумпированных судей выгодно всем»
В ассоциации Vocea Justiției («Голос юстиции») нас до сих пор трое, к нам не присоединяются не потому, что не разделяют наши взгляды, а потому, что для этого нужна смелость. Знаете, когда стоит целый строй, нужна смелость, чтобы сделать шаг и выйти из строя. И ты не знаешь, что получишь, когда сделаешь этот шаг, не знаешь, кто пойдет за тобой. Только когда твои принципы для тебя настолько важны, что ты не можешь больше стоять в строю, можно найти в себе силы, чтобы сделать этот шаг.
Осенью заканчивается срок мандатов членов ВСМ. Я решила выдвинуть свою кандидатуру [в члены ВСМ] и уже написала программу. Когда я над ней работала, поняла, что не важно, сколько человек за меня проголосует. Важно, чтобы с этой программой ознакомились другие судьи. Возможно, кто-то из них никогда не задумывался, что все может быть по-другому. У нас в системе больше 400 судей, и если один из них хочет что-то сделать, ему мало что удастся. Но если все 400 захотят изменений, возможно все. Очистить систему от коррумпированных судей выгодно всем. Это может быть внешняя или внутренняя аттестация судей.
Вообще у меня есть смелая идея: собрать 10 молдавских судей с безупречной репутацией, которых ни прокуроры, ни журналисты, ни кто-то другой не смогут заподозрить в коррупции. Пусть они проверят всех судей на неподкупность. Я думаю, за год они справятся. Только тот судья, который работает в этой стране и живет на ту же зарплату, что и другие судьи, прекрасно понимает, что на нее можно купить.
Для этих 10 судей надо будет создать такие условия, чтобы они были защищены от нападок и любого вмешательства в их работу. Я думаю, большинство коррумпированных судей, а это где-то 25% нашего судейского корпуса, узнав о создании такой коллегии, сами уволятся. С одной стороны, они поймут, что не смогут повлиять на эту коллегию, с другой — решат, что уже достаточно много накопили, чтобы ввязываться в историю с аттестацией.
Факт коррупции не так просто скрыть. Когда начинала работать, была судьей по уголовному преследованию и рассматривала много дел, связанных с заключенными, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Когда рассматриваешь эти дела, видишь, какие разные решения принимают первая судебная инстанция, вторая и третья. Начинаешь думать: а куда делись эти обстоятельства дела, что здесь вообще проиcходит, почему здесь другое решение? Знаете, по этим делам видно, где закончились финансовые ресурсы [на взятки], чтобы выдавать желаемое за действительное. И когда деньги заканчиваются, человек возвращается обратно в тюрьму, хотя на каком-то этапе его даже оправдали.
Или взять недавний случай, о котором сообщил НЦБК: адвоката застали с поличным на взятке €50 тыс. Такую сумму невозможно скрыть в своих доходах-расходах. Она всплывет в украшениях, аксессуарах, автомобиле или других расходах. Тем более, что сейчас все автоматизировано и можно легко проверить расходы с банковской карты. Можно проверить все имущество судьи и его родственников. И даже можно сделать международные запросы. Очень многие страны тоже борются с коррупцией и откликнутся на эти запросы. Еще можно проверить имущество и расходы близких родственников. Потом можно попросить этих судей объяснить несостыковки в доходах-расходах и посмотреть, насколько их объяснения логичны.
«Ты слишком много говоришь»
Когда я работала над своей программой [на конкурс члена ВСМ], думала, как обеспечить реальную независимость судей. Сейчас она зависит от множества дел и административного давления, которое оказывают на судей. Простой пример: в Кагуле есть судьи, у которых на рассмотрении больше 1 тыс. дел. Среди них есть дела, которые надо рассмотреть за 30 дней, по другим надо за 30 дней написать мотивировочное решение. Конечно, эти судьи не укладываются в сроки. Ему могут сказать: «Ты слишком много говоришь. Еще и чем-то недоволен? Сейчас мы посмотрим, как ты соблюдаешь сроки. Судебная инспекция может очень быстро начать эту проверку, а потом уволить». Получается, судье надо писать объяснительные для инспекции, но и дела, которые у него на рассмотрении, никуда не исчезнут.
Мне очень странно, как можно создавать такие нормы [по срокам], учитывая, что судебные решения выносит не автомат, а живой человек. Он может заболеть, уйти в отпуск. Все что угодно может произойти. Надо провести исследование и определить оптимальное число дел, которое может одновременно находиться в производстве судьи. Надо установить число дел, которое он может качественно рассмотреть и при этом не оставаться на работе до полуночи.
Когда я работала над своей программой [на конкурс члена ВСМ], думала, как обеспечить реальную независимость судей. Сейчас она зависит от множества дел и административного давления, которое оказывают на судей. Простой пример: в Кагуле есть судьи, у которых на рассмотрении больше 1 тыс. дел. Среди них есть дела, которые надо рассмотреть за 30 дней, по другим надо за 30 дней написать мотивировочное решение. Конечно, эти судьи не укладываются в сроки. Ему могут сказать: «Ты слишком много говоришь. Еще и чем-то недоволен? Сейчас мы посмотрим, как ты соблюдаешь сроки. Судебная инспекция может очень быстро начать эту проверку, а потом уволить». Получается, судье надо писать объяснительные для инспекции, но и дела, которые у него на рассмотрении, никуда не исчезнут.
Мне очень странно, как можно создавать такие нормы [по срокам], учитывая, что судебные решения выносит не автомат, а живой человек. Он может заболеть, уйти в отпуск. Все что угодно может произойти. Надо провести исследование и определить оптимальное число дел, которое может одновременно находиться в производстве судьи. Надо установить число дел, которое он может качественно рассмотреть и при этом не оставаться на работе до полуночи.
Я уверена, что ВСМ должен инициировать изменения в работе судей: найти средства, компетентных людей, которые смогут рассчитать [оптимальный объем работы]. Чтобы судьям не приходилось выбирать между «побыстрее вынести решение, не нарушая сроки» и «вынести обдуманное решение, рискуя, что тебя накажут». Действующие сегодня сроки дают возможность давить на судью административно и дисциплинарно: сделай так, и мы не будем обращать внимания на сроки. Это рычаг, при помощи которого можно подмять под себя всю судебную систему
.
В 2009 году в медуниверситете провели исследование «Психологический портрет судьи». Они выяснили, что работа судьи — сама по себе стрессогенный фактор. В первую очередь это связано с огромным числом дел и административным давлением. Но речь также и о чрезмерной психической нагрузке: постоянно имеешь дело с негативными обстоятельствами жизни, которые пропускаешь через себя. Судья ведь — телохранитель общества, который говорит, что ни человек, ни законодательная власть, ни исполнительная не могут нарушать закон. Судья должен уметь защищать самого себя и защищать других. А что будет, если этот телохранитель начнет бояться?
«Разве работа судьи стоит таких жертв?»
Летом 2020 года я повторно участвовала в конкурсе на пост судьи в Кишиневе. На заседании ВСМ, рассматривая мое заявление, спросили: «Разве стоит работа судьи таких жертв?». Еще мне задавали вопросы, сколько времени я провела в декрете, кто сидит дома с детьми. И мне вторично отказали в переводе в Кишинев. Я до сих пор не понимаю, как можно быть членом ВСМ и задавать вопрос, стоит ли работа судьи таких жертв. Ведь это надо совсем не уважать свою профессию. Работа судьи — это не просто карьера, это решения, которые ты пропускаешь через себя, мотивируя их по ночам. Эти решения — как твои дети, которых ты рожаешь и хочешь, чтобы они были здоровыми.
Я решила, что меня дискриминировали и обратилась в Совет по равенству. В совете подтвердили, что ситуацию следует расценить как «продолжающуюся дискриминацию». Вообще, решение Совета — юридический повод для отставки членов ВСМ. Сейчас ВСМ пытается оспорить это решение в суде. Никто не хочет потерять свой мандат.
В ноябре 2020 года на заседании ВСМ мне вынесли дисциплинарное наказание — предупреждение. На меня поступили жалобы по делам, которые мне распределяли, когда у меня был перелом ноги, и я не могла работать. И еще в 2019 году первый раз за два года я взяла отпуск. Мне сказали: «Интересы правосудия должны быть выше этого». Выше чего? Выше того, чтобы ты нормально высыпался, и у тебя была возможность прийти домой и поесть? Я думаю, в интересах правосудия взять на работу больше судей, сократить у них число дел, увеличить сроки рассмотрения этих дел и т.д. А чувство ответственности судей не надо эксплуатировать.
«Максимум, что они могут сделать — уволить меня»
Сейчас решение о моем дисциплинарном наказании приостановила Апелляционная палата, но она не высказалась еще по существу дела. Они не могут как-то повлиять на меня. Максимум, что могут сделать — уволить меня. Но я не остановлюсь и буду судиться с ними. Уволив меня, они не смогут заставить меня молчать или сделать несчастной.
Я уже через многое прошла. Речь не о моей работе в Тараклии, а о способности видеть светлую сторону в любой ситуации. Езжу в Тараклию и каждый день фотографирую восходы, и мне это доставляет удовольствие. Раньше у меня не было возможности наблюдать за природой. Теперь благодаря долгим поездкам я могу наблюдать весну, лето, осень, зиму. А еще по пути могу общаться с простыми людьми. У меня есть знакомые, с которыми нас свела маршрутка. До этого у меня такого не было. Это — часть моего опыта.
Я смотрю на это, как на очень интересную жизнь. Да, у меня бывают стрессы, но я их преодолеваю и становлюсь сильнее. Мои дети пойдут по моим стопам. Когда была в отпуске по уходу за ребенком, я увидела информацию о девочке, которой нужны были деньги на операцию. Она не могла ходить. Подумала, что могла бы выделить какую-то сумму из своего бюджета, но этого было бы мало. Нужно было больше средств, чтобы реально помочь.
У меня была большая коллекция редких растений. Решила, что могу попробовать организовать выставку и пригласить поучаствовать в ней людей, у которых тоже есть такие растения. Моя дочь-подросток тогда сказала: «Мама, как ты сможешь это сделать. У тебя нет связей, у тебя маленький ребенок и нет денег». Но у меня все получилось. Я организовала выставку в столичном торговом центре. Помещение предоставили бесплатно. Это была первая выставка коллекционных цветов в Молдове.
Когда мы организовывали эту выставку, я не говорила, кем работаю. Чтобы на этом не начали спекулировать. Дочь тогда сказала мне: «Мама, ты для меня пример того, что на самом деле все возможно, главное — захотеть». После этого моей дочери никто не сможет сказать: «У тебя нет денег, нет связей, у тебя ничего не получится». Я знаю, что она скажет: «Неправда, все получится».
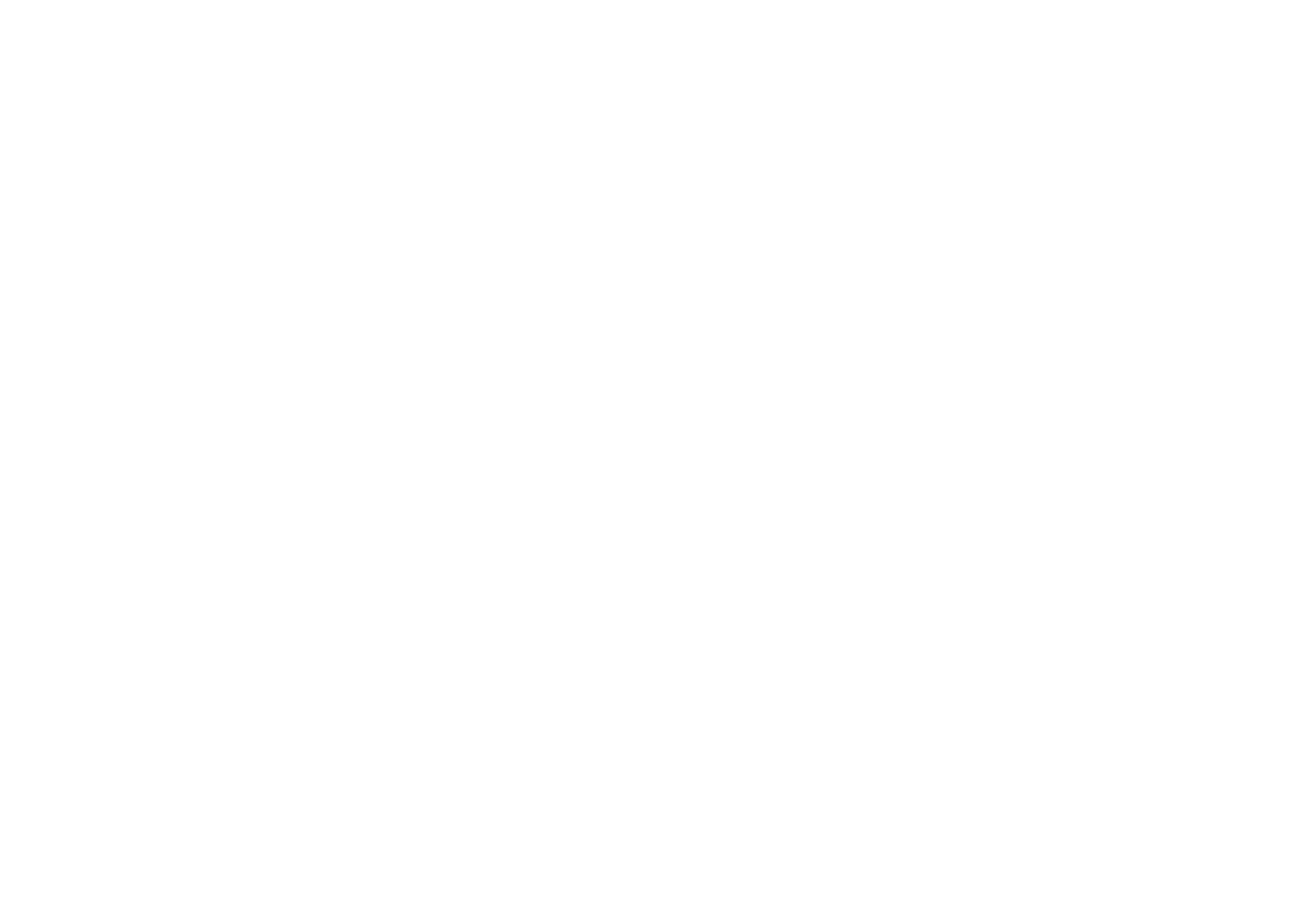
Когда в первый день пришла на работу, было очень страшно. Казалось, забыла все, чему меня учили. Первый год работала стажером в прокуратуре столичного района Буюканы, а потом стала помощником прокурора. Коллеги поначалу отнеслись к моему приходу с недоумением: «Женщина в прокуратуре?» Вообще тогда в юстиции было очень мало женщин, на юридическом факультете из 120 студентов — около 15 девочек. Многим казалось, что это неподходящая работа для женщин. Во многом потому, что прокуроры выезжали на место преступлений, в том числе убийства, изнасилования, разбойные нападения.
Но вообще коллеги ко мне хорошо относились и много помогали. Мой руководитель понимал, что пришел молодой специалист, который, возможно, теряется в некоторых ситуациях. Очень поддерживали и сотрудники, которые делились опытом и помогали везде, где могли. Со временем пришел опыт. И, когда окунулась в эту сферу, поняла, что это очень интересно.
«После этого убийства долго не могла прийти в себя»
Работая прокурором, нужно вырабатывать в себе хладнокровие, потому что очень сложно пропускать все через себя. Бывает, прочтешь жалобу, изучишь материалы уголовного дела, вникнешь в вопрос и думаешь: как же получилось, что человек попал в такое положение? К сожалению, бывают ситуации, когда люди слишком поздно к нам обращаются, а мы не можем ничего сделать, так как истек срок давности. Анализируешь все это, и где-то внутри тебе больно.
У меня было много уголовных дел, по которым я поддерживала обвинение. Но было одно убийство, после которого очень долго не могла прийти в себя. Тогда в Кишиневе произошла серия разбойных нападений с применением огнестрельного оружия.
Когда эту группировку задержали, они рассказали, что убили и расчленили одного человека. Его останки закопали в разных частях города. Тогда была очень холодная осень, и останки почти не разложились. Судмедэксперт смог полностью сложить труп. Когда я смотрела на эти фотографии, казалось, что оно целое.
Меня больше всего поразило то, что организаторами этого бандформирования были двое студентов-медиков — брат и сестра. Остальные — их друзья. Убитый был их сообщником, с которым они что-то не поделили. Они подрались и забили его металлическим прутом от кровати. Чтобы скрыть следы преступления, тело расчленили в ванной. Когда судмедэксперт проводил экспертизу, он отметил, что труп расчленил человек, который хорошо знает медицину. Это помогло подтвердить их причастность.
В суде адвокаты пытались бороться с нами. Они утверждали, что убитый тоже дрался и его убили при самообороне. Адвокаты утверждали, что после драки эти студенты обращались за медицинской помощью и не ходили на лекции. Чтобы опровергнуть эту версию, я запросила медучреждения о том, обращались ли к ним за помощью эти студенты, а в медуниверситет — отсутствовали ли они на занятиях. Мне ответили, что этого не было. Я представила в суде эти дополнительные доказательства и опровергла версию защиты. Все получили большие сроки — от 17 до 20 лет лишения свободы. Сестра получила самый маленький срок, потому что не участвовала в драке, но помогала скрыть следы убийства.
В прокуратуре сектора Буюканы я проработала 14 лет. Потом меня назначили прокурором отдела контроля за уголовным преследованием Генпрокуратуры (сейчас — отдел унификации практики в области уголовного преследования). В 2017 году я возглавила этот отдел. Мы следим за тем, чтобы прокуроры правильно толковали и применяли закон на практике. Для того чтобы унифицировать практику, мы можем запланировать проверку по всей стране уголовных дел определенной категории, например, по ДТП, сексуальным или любым другим преступлениям. Мы проверяем, какие есть общие недочеты и недоработки, а затем вырабатываем общие рекомендации.
Раньше каждые полгода мы проверяли, как прокуроры применяют дискреционное право. Что это такое? Это когда прокурор сам, без передачи дела в суд, принимает решение, привлечь ли человека к ответственности за правонарушение (ранее называлась административная ответственность), или направить дело в суд для привлечения человека к уголовной ответственности. Также прокурор может сам на год приостановить уголовное преследование с возложением на обвиняемого определенных обязанностей, чтобы посмотреть, исправится ли человек, и в дальнейшем освободить его от уголовной ответственности.
Когда появилась эта норма закона, и мы провели первые проверки ее соблюдения, выявили достаточно много нарушений. В связи с этим многие прокурорские решения отменили. На основании результатов проверок обобщили практику и выработали указания для территориальных прокуратур о том, как правильно применять эту норму. После этого каждые полгода мы тоже обобщали практику соблюдения этих указаний. Сейчас мы не проводим такие проверки, потому что эта работа наладилась. Конечно, бывают исключения, но это уже не системные ошибки.
Еще наш отдел по указанию руководства может проверить работу любой территориальной прокуратуры. В этом случае проверяются все уголовные дела: и те, которые в производстве, и по которым уже приняли решения или приостановили следствие.
Это не значит, что прокуроры в территориальных прокуратурах не имеют права на свое мнение. Мы часто проводим оперативные совещания вместе с территориальными прокурорами, чтобы прийти к общему мнению по вопросам квалификации преступления, наличия достаточных доказательств, необходимости дополнительных следственных действий.
Также в наш отдел поступают сигналы и очень много жалоб. Например, о том, что следствие ведут предвзято, и это дело надо передать другому следственному органу. Тогда мы запрашиваем материалы уголовного дела и проверяем их. Мы делаем заключения, исходя из материалов дела и норм закона. Как можно это по-другому сделать? Получается, ты допустишь ошибку, которую потом невозможно исправить.
Если мы видим, что дело расследуют неправильно, или вообще нет состава преступления, мы реагируем и даем указания прокурорам, как это исправить. Если есть основания, мы можем изъять дело и передать его другому органу следствия или прокуратуры, чтобы они его вели в правильном направлении.
«Честь мундира важна, но включать гордыню не стоит»
В Молдове было много нарушений, связанных с применением предварительного ареста. Мы проанализировали ситуацию и в июле 2017 года разработали Гид для прокуроров. В нем — практические инструкции о том, в каких случаях необходимо применять арест в отношении взрослых и несовершеннолетних (в том числе, в зависимости от тяжести преступления, обстоятельств дела, личности преступника и т.д.). Также в Гиде есть примеры из практики ЕСПЧ. Мы до сих пор продолжаем следить за тем, как соблюдают закон при применении этой, самой суровой, меры пресечения.
Конечно, дело делу рознь. Если есть основания для ареста, прокурор обязан его требовать. Если оснований не было, но арест применили, прокурор должен за это ответить. Против таких прокуроров проводятся проверки, по результатам которых, если подтвердились нарушения, мы готовим обращение в Инспекцию прокуроров, чтобы инициировать процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности.
Прокурор не может быть хорошим для всех, прокуроров не могут все любить. Прокурор — это человек, который берет на себя ответственность за обвинение и за то, прекратить дело или передать его в суд. Прокурор вступает в противоборство со стороной защиты, потому что он обязан доказать обвинение, которое предъявлено. Иначе получается, что дело необоснованно отправили в суд и человека зря заставили ходить по инстанциям.
Мне кажется очень правильным, когда прокурор не боится отказаться от обвинения, если видит, что нет доказательств вины. К сожалению, бывает такое, когда многие вещи не известны на стадии следствия, а в суде они выясняются или появляются новые доказательства.
В таких случаях достойный прокурор, который правильно оценил все доказательства, отказывается от обвинения. Есть мнение, что прокурор несмотря ни на что должен до конца поддерживать обвинение. А зачем? Чтобы опять упереться в то, что доказательств нет, и приговор все равно будет другой?
Это психологические детали, которые надо уметь преодолевать в своей работе. Да, честь мундира тоже важна, но настаивать на своем, включая гордыню, точно не стоит.
С коррупцией должны бороться не только специальные органы, но и мы сами. Если мы считаем, что есть какие-то акты коррупции, у нас есть возможность об этом заявить и подключить соответствующие органы. Коррупционеры должны отвечать по закону.
«Это большое счастье, когда ты идешь на работу с удовольствием»
Изменения в прокуратуре возможны, в том числе, если каждый прокурор будет профессионально самосовершенствоваться и заниматься самообразованием. У нас очень быстро изменяется законодательство, есть много интересных решений КС, которые нужно учитывать, чтобы идти в ногу со временем. Прокурор независим и принимает решения самостоятельно. Да, есть прокурор, который выше по иерархии и может отменить какое-то решение, если считает его незаконным. Но это не значит, что нижестоящий прокурор зависим от иерархического контроля. Нет. Он принимает решение и отвечает за него в дальнейшем.
Недавно я пришла к выводу, что прокуратура очень повлияла на меня — на формирование характера, отношение к людям. Я стала сильнее и смогла держать удары в тяжелых ситуациях, которых, к сожалению, у меня в жизни было немало. Благодаря прокурорской работе стала внимательнее и трепетнее относиться и к семье, и к коллегам. Потому что время, которое мы проводим на работе, — это огромная часть нашей жизни.
Наше внутреннее состояние, с которым мы приходим на работу и уходим с нее, влияет и на нас, и на общий психологический климат в коллективе. Я благодарна коллегам за то, что мы поддерживаем атмосферу взаимопонимания и взаимоподдержки. Это очень здорово, так как в такой атмосфере работа спорится. Это большое счастье, когда ты идешь с удовольствием на работу. Понимаете?
Когда приходишь и хочется успеть сделать многое.
2020 год был для нас очень тяжелым из-за пандемии. Потом пришлось наверстывать, оставаться после работы. Хотя нам и так довольно часто приходится оставаться после работы, но я не воспринимаю это как сверхурочную работу. Просто работы очень много, и ее надо делать вовремя и правильно.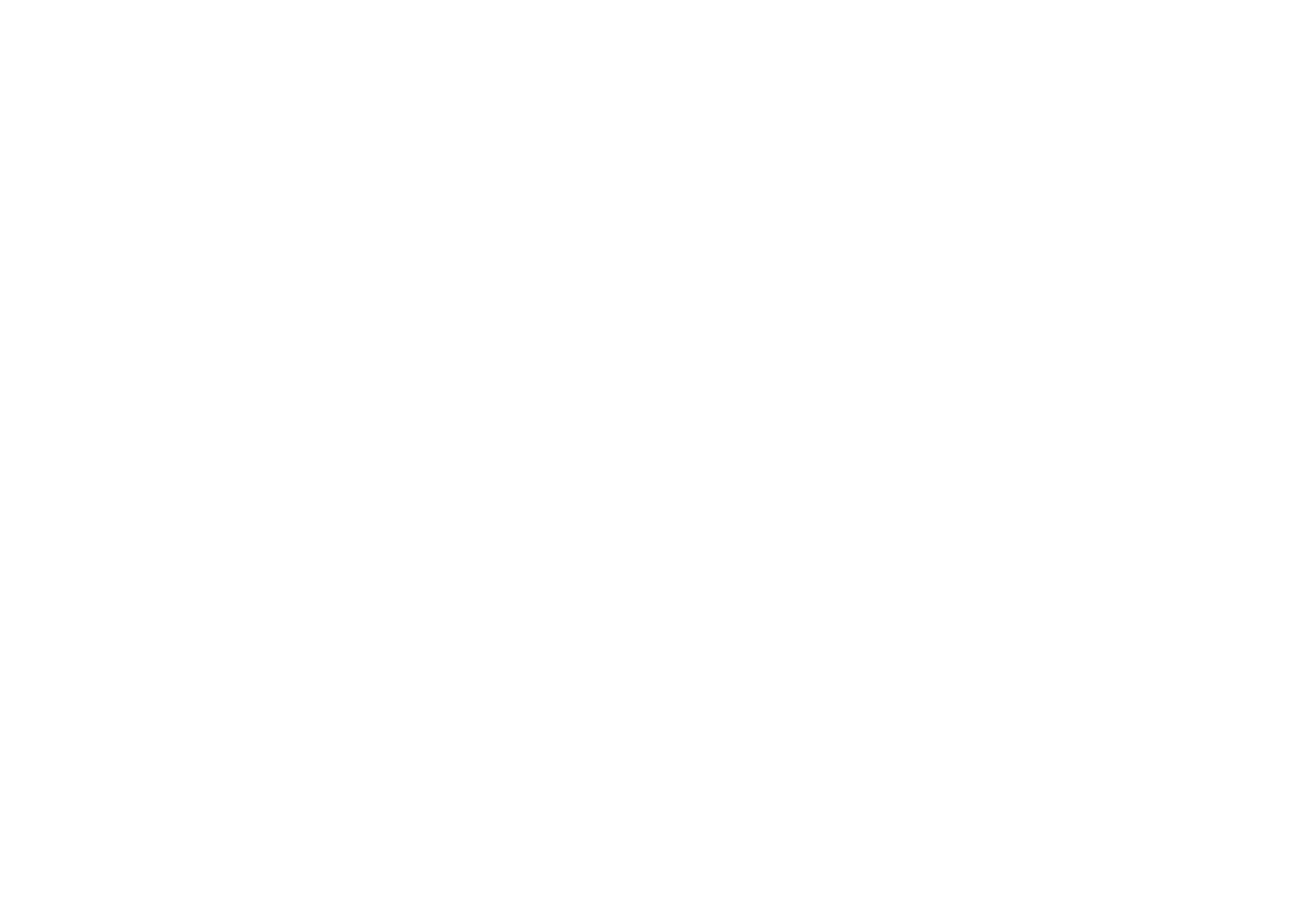
Но у нас все было по-другому. Мама работала в правозащитных проектах, а я ей помогала. Каждое лето проводила в Центре для детей с ограниченными возможностями и помогала им, как могла. В основном, просто играла с ними. Еще я была волонтером в проекте по борьбе с торговлей людьми, в котором работала мама. Потом много волонтерствовала за границей.
После университета хотела устроиться в правозащитную организацию, но мне отказывали, говорили, что я сверхквалифицированная. Мама предлагала устроиться юристом в банк, но я знала, что моя работа должна быть связана только с защитой прав человека. Я уже планировала стать государственным адвокатом, но меня пригласили в Promo-LEX. Это — одна из лучших правозащитных организаций в Молдове. Я об этом даже не могла мечтать. Так началось более углубленное знакомство с проблемой семейного насилия.
Были два случая, которые меня очень задели. В одном деле муж прижигал жене ноги утюгом и говорил, что утюг сам много раз на нее упал. Меня поразил уровень пыток, которому женщину подверг человек, с которым она живет под одной крышей. Второй случай — муж заворачивал жену в ковер, уносил в подвал, избивал ногами, насиловал железными предметами. Меня просто шокировало, какие ужасные вещи происходят за закрытыми дверями. Насколько хрупка наша свобода. Это может произойти с любой из нас.
«Я до сих пор начинаю плакать, когда говорю об этом»
Но был еще один случай, который меня подкосил — дело турецких учителей. Я до сих пор начинаю плакать, когда о нем говорю. Тогда я работала в Правовом центре адвокатов, который помогает беженцам, и отвечала за все пункты границ, включая аэропорт, а еще за специальный центр, где держат беженцев. Раньше частенько бывало, что пограничная служба не знает о том, что люди могут просить убежища, и мы вмешивались и урегулировали такие ситуации.
5 сентября 2018 года был мой день рождения, а 6 сентября в 7.30 позвонила моя коллега и говорит: «Быстро в аэропорт! Там высылают учителей из лицея Orizont». За год до этого была такая же история с директором школы. Тогда мой коллега успел заполнить заявление, и они [спецслужбы] не смогли его выслать. Через пять минут я уже приехала в аэропорт и до четырех утра следующего дня пыталась их найти. Искала везде: у нас [сотрудников центра] есть доступ во все зоны аэропорта. Потом узнала, что их посадили в самолет часов в 22:00-23:00. Тогда как раз вылетал рейс в Стамбул, и я была в зале вылетов [учителей там не было], а один из юристов Orizont дежурил у входа в VIP-зал. Только потом мы узнали, что их провели через какие-то неофициальные входы. Около четырех часов утра я и еще несколько моих коллег отправились в Бюро миграции. Нам сказали, что учителя там. В одном из кабинетов всю ночь горел свет. Мы обманули охранника и зашли внутрь, но их там не было. Мы до последнего не верили, что они уже в Турции.
Я приняла это, как личную трагедию, потому что не смогла остановить экстрадицию, а год назад мой коллега смог. За два года у меня не было таких случаев. Никогда не забуду, как в тот вечер кричали жены этих учителей, которые протестовали у аэропорта. Я никогда в жизни такого не слышала.
Одной из них позвонили и сказали, что учителя уже в Турции. После этого я около месяца не могла спать, постоянно начинала плакать. Звонила знакомому психологу, и она сказала: «Если хочешь плакать — плачь, если не хочешь спать — не спи, потому что твой организм сейчас что-то переживает». До сих пор не могу следить за этой историей, потому что она меня травмировала. Это так подействовало не только на меня. Юристы Orizont тоже переживали.В этой истории был еще важный момент: этот случай вызвал много эмпатии в такой ксенофобной стране, как Молдова. Обычно здесь для многих людей слово «беженцы», как красная тряпка для быка. Мне кажется, эта история положила начало конца ксенофобии. Я не знаю человека, который бы остался равнодушным.
У моей мамы, например, по 7-8 судебных заседаний в день. Я не понимаю, как такое вообще можно выдержать. В Молдове адвокатам буквально приходится бороться за выживание. Ты не получаешь зарплату от государства, как судьи или прокуроры. В принципе свои доходы ты должен сопоставлять с доходами подзащитных. На бедных людях ты не можешь заработать. Ты не можешь просить у них баснословные суммы, а есть случаи, когда вообще не можешь взять деньги у человека. Поэтому ты вынужден брать много дел и работать ночами, чтобы все успеть. Твои ноги — твой хлеб. Сколько можешь выдержать, столько и можешь получить.
Во время пандемии особенно пострадали уязвимые группы населения. Мне повезло, что у меня была работа, которую я не потеряла. Многим так не повезло. Были люди, которые потеряли работу, и им нечего было есть. Мир и так был разделен на бедных и богатых, а в пандемию бедные стали еще беднее.
17 марта [2020 года], в день, когда в Молдове объявили ЧП, мы успели освободить из центра для беженцев трех человек из Турции. После объявления ЧП у меня не было доступа в центр размещения мигрантов. Наверное, всем было страшно — и мне, и им. Обычно каждую неделю я была с ними на связи, они могли спросить, а я могла подсказать. Мы пытались помочь беженцам, женщинам, которые оказались закрытыми в одном доме с агрессорами. Абсолютно все правозащитные организации помогали своим бенефициарам. Это самая легкая помощь — перенаправить финансы на покупку продуктов и средств гигиены. Другие моменты было очень сложно предугадать.
«Ей надо помочь здесь и сейчас. Чтобы она не проходила через 10 кругов ада»
Сейчас я работаю в международном проекте создания в Молдове Центра семейной юстиции. Такие центры есть в США, но мы хотим, чтобы в Молдове он работал с учетом местных особенностей. Этот центр будет работать под крылом МВД или Генинспектората полиции.
Обычно женщина, пережившая насилие, идет в полицию, потом на медицинскую экспертизу, потом к психологу. Ее постоянно куда-то направляют, могут даже попросить прийти в другой день. Это затрудняет ситуацию, она не в том психологическом состоянии, чтобы постоянно куда-то ходить. Ей надо помочь здесь и сейчас. Идея Центра семейной юстиции в том, что здесь будут полицейский, психологи, адвокаты, соцработники, судмедэксперты. Судьи даже предложили, чтобы жертвы насилия не шли в суд, а участвовали в заседании через онлайн-конференцию. Это необходимо, чтобы женщина не проходила через 10 кругов ада, на каждом из которых ее еще куда-то пошлют.
Первые дни [после обращения в полицию] женщина переживает кризис. Она в любой момент может передумать [и забрать заявление]. В моей практике было очень много случаев, когда женщины забирали заявления. И ты каждый раз думаешь: «Ну почему это происходит?»
Моя знакомая психолог Лидия Горчаг говорила, что перед тем, как решиться первый раз уйти, женщина минимум семь раз пройдет через круги насилия. Я очень много ездила с Лидией Горчаг на тренинги и поняла, что психология человека, которого морально уничтожали день за днем — это очень тонкая вещь. Мы не можем винить жертву за то, что она передумала и вернулась к агрессору. Ей нужно сказать: «Ок. Но, если передумаешь, мы всегда тут, всегда готовы тебе помочь».
В Центре мы должны помочь ей и показать, что она не одна. Очень важно, чтобы человек, который пережил насилие, видел, что ему помогут, его не будут осуждать. Мы хотим, чтобы это была модель помощи жертвам семейного насилия. Мы сможем на несколько дней размещать их в нашем Центре, а потом будем распределять в центры длительного размещения. Кроме того, за это время мы сможем оперативно собрать доказательную базу. Вообще, жертва не должна убегать с детьми из дома. У нас обычно агрессор остается в доме, а женщине приходится убегать. Мы хотим эту практику изменить, чтобы женщина оставалась в комфортных и привычных для нее условиях.
Многие [жертвы семейного насилия] не понимают, что развод сам по себе ничего не дает. Агрессор привык применять силу и контролировать, и после развода он будет терроризировать или уже бывшую жену, или следующую семью. На самом деле женщина не может спровоцировать насилие. Такого не бывает. Человек идет домой и по дороге у себя в голове уже поругался [c женой]. Он просто пришел и просто захотел ее ударить. Были случаи, когда [мужья моих подзащитных] говорили — вот, она меня не помыла, не приготовила еды, как ее не бить? Для меня это нонсенс. Что это за культура, где женщину воспринимают, как рабыню?
[Проблему семейного насилия] надо решать и через полицию, и через психолога. Сейчас есть специальные курсы, на которые суд обязывает ходить агрессоров. Если они отказываются, то против них могут завести уголовное дело. У нас мужчина идет к психологу, только если его обяжет суд.
Есть случаи, когда агрессор начинает понимать, что не его партнерша виновата, а это у него проблема. Если он осознал это, то можно восстановить семью. Но, чтобы восстановить семью, психолог должен поработать и с жертвой.
Но стереотипы очень живучи. Некоторые заседания суда, на которых рассматривают дела об изнасилованиях — это просто кошмар. Был случай, когда мы с коллегой готовили жертву к выступлению в суде и уговорили ее обрезать ногти, скрыть татуировку и одеться скромнее. Когда приходишь в суд, ты должна выглядеть так, чтобы судья не задал тебе какой-то глупый вопрос: «А почему ты в короткой юбке. почему у тебя длинные ногти?» Тебя изнасиловали, а после этого судья еще оценивает длину твоих ногтей и прическу, количество партнеров. Получается, если ты — женщина и в 12 ночи была на улице в короткой юбке, то сама напросилась. А если еще не отбивалась, тогда точно напросилась. Хотя на самом деле, никто не имеет права на нее нападать. А есть еще феномен — замирание. Когда женщину насилуют, мозг ее блокируется, и она не может сопротивляться.
«Большая проблема в этой системе — люди»
Кроме законов, есть еще одна проблема — отсутствие эмпатии и эмоциональное выгорание у тех, кто работает в системе юстиции. С нами: адвокатами, судьями, прокурорами, полицейскими — никто не работает. А ведь нам приходится чуть ли не каждый день сталкиваться с тяжелыми преступлениями — убийствами, изнасилованиями. И в какой-то момент ты начинаешь черстветь, тебя это больше не трогает. Я думаю, это самый опасный момент, когда тебе уже не кажется важным то, что ты делаешь. Моя подруга-психолог провела несколько тренингов с адвокатами, полицейскими и судьями. Она была просто шокирована тем, как эти люди изголодались по разговорам, как им надо было рассказать о своих эмоциях. И речь не только о коррупции и проблемах в системе. Им хочется рассказать о том, что они тоже люди, тоже устали, им психологически тяжело работать с делами об убийствах и изнасилованиях. Это тоже травмирует.
Пока мой папа был судьей, я вообще его не видела. Он все время отписывал дела. Это достаточно сложная работа. Ты должен принимать решения, от которых зависит жизнь человека. Адвокатам тоже сложно: от твоего выступления зависит будущее человека. У тебя постоянно стрессы. Моя подруга приостановила адвокатскую лицензию и занялась бизнесом. Она говорит, что приходила домой и постоянно думала о делах, которые ведет, постоянно переживала. У других адвокатов, прокуроров, судей то же самое. И им некогда думать о психологической составляющей. Им надо кормить семью, оплачивать ипотеку. Об этом никогда не говорят. Всегда говорят — все адвокаты коррумпированные, они носят чемоданы денег. Все судьи и прокуроры — тоже такие. Большая проблема в этой системе — люди и то, что никто не работает с их эмоциональными проблемами и травмами.
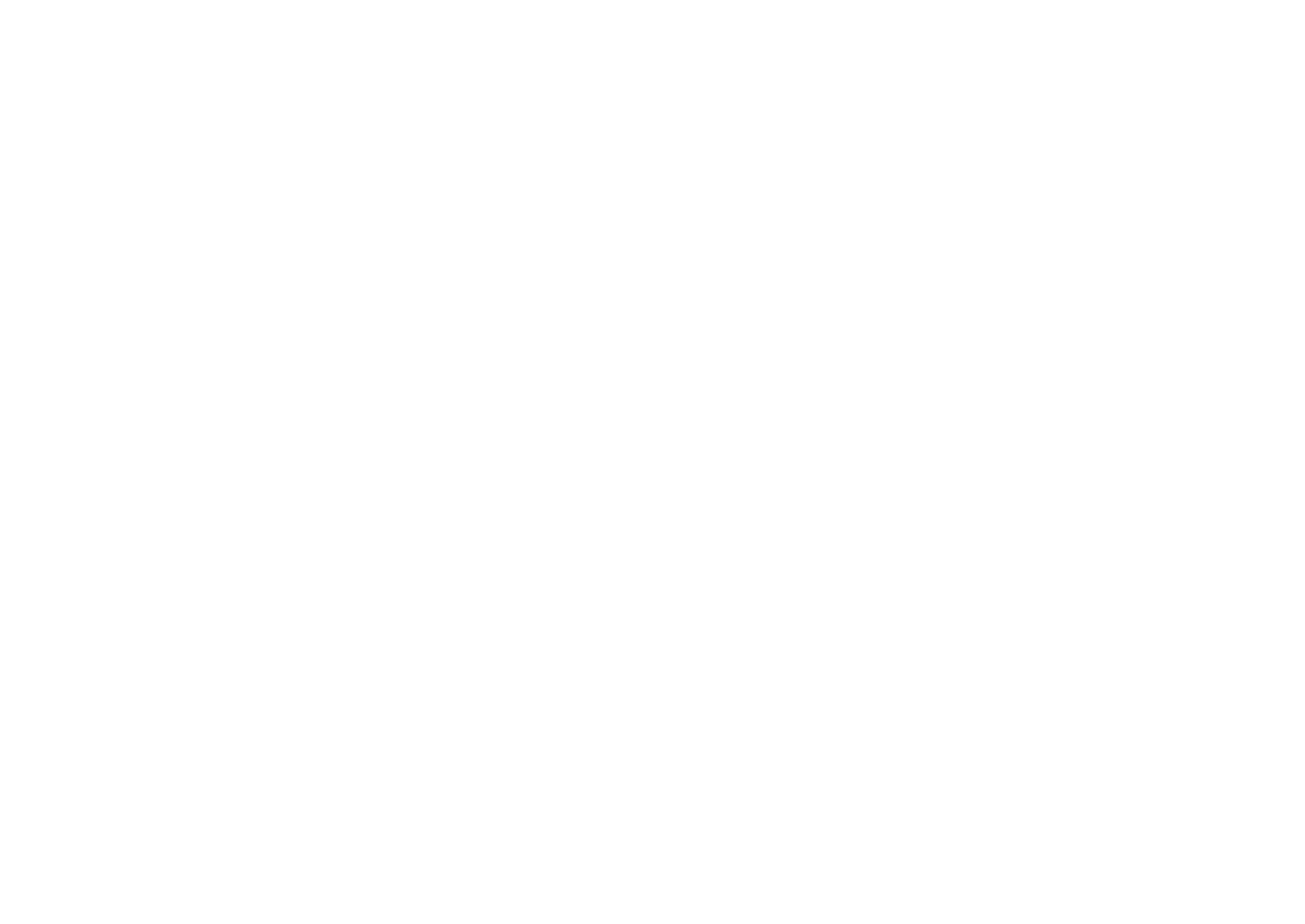
Дубоссары — район на берегу Днестра. Он поделен на две части: половину контролируют конституционные власти [Молдовы], а вторую — неконституционные власти Приднестровья. Прокуратура находится в селе Устье. Найти там жилье достаточно сложно. Бытовых условий, к которым мы привыкли (канализация, горячая и холодная вода), в селе не было даже в прокуратуре.
Но работа показалась мне интересной, и я решил остаться там до нового года. Потом подумал, что надо проработать хоть год или два, а через два с половиной года я стал заместителем начальника Дубоссарской прокуратуры. Когда меня назначали, спросили: «Вы проработаете в этой должности пять лет?». И я пообещал. В общем, в Дубоссарах я проработал 11 лет. В 2015 году возглавил прокуратуру Дубоссар, а в 2017 принял участие в конкурсе на пост главы Отдела борьбы с торговлей людьми в Генпрокуратуре. У меня были небольшие надежды, что я пройду конкурс, но так получилось, что прошел.
«Они смотрели на нас, как на инопланетян»
Когда подавал документы, меня привлекла специфика этих случаев. Хотя они достаточно сложные, в каждом деле речь идет о человеческих судьбах. Чаще всего жертвами таких преступлений становятся женщины и дети. Такие дела требуют большой эмоциональной отдачи. Но, когда ты понимаешь, что ты — тот человек, который может помочь жертве, это помогает справиться. Например, в этом году у нас была спецоперация во Франции. Граждане Молдовы там подвергались трудовой эксплуатации. Когда они (пострадавшие) увидели нас первый раз, смотрели на нас, как на инопланетян, которые спустились с неба.
Мы всегда сталкиваемся с такой реакцией пострадавших: они не понимают, чего ты от них хочешь. Очень часто они даже не понимают, что являются жертвами. Причины могут быть и в жизненных обстоятельствах, и в том, что трафикант убедил их, что все нормально. Это было в феврале, а в июне мне написала одна из жертв, что ее семья получила вид на жительство во Франции. Она написала: «Спасибо, что вы пришли. Мы сначала не поняли, что случилось. Вы объяснили, как нас обманывали».
Вот эта уверенность в том, что ты можешь помочь людям, попавшим в такую ситуацию, не дает опускать руки и помогает справляться с тяжелыми эмоциями.
«Когда умирает ребенок, все остальные заслуги обесцениваются»
Было много дел, которые меня задели. Но, наверное, больше всего — дело девочки, которая умерла по халатности врачей. Она родилась в один год с моим старшим сыном, была старше его на 15 дней. У нее было какое-то простудное заболевание, но врачи скорой помощи дважды отказались ее госпитализировать. На третий раз ее все же забрали в больницу, но там ей вкололи неправильный препарат.
По делу проходили около семи врачей и медсестер, которые работали на машине скорой помощи и принимали ребенка в больнице. Они все перекладывали вину друг на друга. В конце концов, три судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что все врачи и медсестры допустили ошибки.
Расследование длилось пять лет. Все это время раз в месяц, а, может, и чаще, отец этой девочки звонил и спрашивал, как продвигается расследование. Каждые три месяца он приходил и приносил мне ее фотографию. Она была единственным ребенком в семье. На такую ситуацию ты смотришь уже не только как прокурор, но и как родитель.
Я не говорю, что мое мнение было субъективным, это же подтвердили и другие врачи. Да, у врачей очень важный и рискованный труд, но, когда умирает ребенок, все остальные заслуги обесцениваются.
В итоге суд признал их виновными, но реальных сроков они не получили, потому что у преступления истек срок давности. Думаю, отцу было важно именно то, что суд признал их виновными. По-моему, он даже не просил моральной компенсации. Он просто хотел добиться объективного расследования.
И, знаете, с 2017 по 2021 год я не почувствовал кардинальных изменений в работе. Специфика нашей работы — торговля людьми. Это не дела о коррупции, об отмывании денег или о банковских аферах. Мы далеки от политики и каких-то изменений, связанных с ней. Но смещение акцентов все же было. Если сначала акцент делали на расследовании преступлений, независимо от их масштаба, то сейчас больше внимания уделяют преступлениям, более опасным для общества.
Может, по другим направлениям что-то изменилось, но у нас все так же: я сижу в том же кабинете и руковожу теми же людьми. Кроме того, за нами [отделом по борьбе с торговлей людьми] следит не общество, а международные структуры. Торговля людьми — это латентное преступление, которое не беспокоит общество, пока ситуация не взорвется. Сначала никто ничего не замечает, а потом в Одессе на фабрике находят более 100 человек, которых держали практически в тюремных условиях. Они жили в бараках, а за работу им ничего не платили.
Зарубежный мониторинг нам очень помогает. Нам указывают на проблемы, которые необходимо решать, и мы это учитываем. Мы получали отчеты группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей с людьми (ГРЕТА) и Госдепа США о борьбе с торговлей людьми, как в 2017 году, так и в 2021. И тогда, и сейчас нам везло с тем, что руководители понимают сложность проблемы и обеспечивают нас всем необходимым. Я всегда говорил — мы не работаем, чтобы подняться или опуститься в рейтингах, представленных в этих отчетах, мы работаем для того, чтобы лучше защищать жертв. Ведь зачастую именно наши граждане находятся на первой линии и страдают (их подвергают эксплуатации). Тут у нас должен быть четкий ответ для трафикантов: не важно, из Молдовы они или нет.
«Коллегам иногда приходилось проводить для судей ликбез»
Не хочу обвинять в чем-то судей, но специфика некоторых преступлений требует, чтобы их рассматривали специализированные судьи. Честно говоря, коллегам, которые ведут дела о торговле людьми, иногда приходится проводить для судей ликбез. И только после этого они представляют материалы дела.
Есть моменты, которые необходимо объяснять: например, если жертва говорит, что все в порядке, но при этом она живет в конюшне и работает за еду, меняет показания или не приходит [на заседания суда], это не значит, что против нее не совершили преступления.
У нас сейчас пробуют назначать судей, специализированных на делах о торговле людьми. Это была, в том числе, моя инициатива. Но результат таких изменений будет виден лет через пять. Судья не может за одну ночь стать специализированным. Например, во многих странах, чтобы стать специализированным на каком-то типе преступлений, полицейские и прокуроры должны пройти специальный курс и тест, который покажет, усвоил ли он информацию. А у нас что сделали? Председатели инстанций посмотрели, какие судьи есть, кто больше подходит на эту должность, и назначили. Насколько я знаю, в таких же условиях назначили судей, которые рассматривают дела о коррупции и краже миллиарда. Назначить судью рассматривать какие-то дела, не значит, что он сразу же станет специалистом в них.
Эти преступления — более сложные, и, чтобы в них разбираться, надо разбираться и в уголовном праве, и в психологии, и в финансовых преступлениях. Часто эти преступления связаны с параллельными финансовыми расследованиями. Чтобы люди захотели этим заниматься, их надо мотивировать. Да, сначала ты приходишь на энтузиазме, а потом видишь, что рассмотрел только три дела, а твой коллега — около 30 дел по кражам. При том что твои дела более сложные, и, чтобы их рассмотреть ты должен предпринять не только профессиональные усилия, но и эмоциональные.
В конце концов в преступлении есть обвиняемый и пострадавший, который ждет, что его права должны защитить. И это не потому, что пострадавший хочет быть частью этого процесса, а потому, что кто-то покусился на его безопасность. В этих случаях — арест не столько безопасность, сколько мера обеспечения безопасности пострадавших. Вот мы расследуем деятельность преступной группировки. Один из ее членов подделал более 10 тыс. документов и получил миллионы леев прибыли, а его месяц продержали под арестом, потом перевели под домашний арест. Это — тоже крайность. Вот во Франции другие члены этой группировки до сих пор под арестом. У нас — из 14 фигурантов дела только двое под арестом.
Мы очень часто сталкивались с проблемой, когда одни и те же судьи рассматривают ходатайства об аресте по разным уголовным делам. И получается, у него пять ходатайств об аресте: уклонение от уплаты налогов, контрабанда, наркоторговля, злоупотребление положением и торговля людьми. Ну, скажем, первых четырех арестовывают, а когда дело доходит до трафиканта, судья видит, что у пострадавшего претензий нет.
Часто жертва не осознает, что она пострадала. Должен прийти психолог и объяснить: что нельзя жить в конюшне и работать за еду. У тебя должна быть зарплата, которой хватит на то, чтобы купить еду, одежду, снимать жилье, и еще чтобы откладывать.
А получается, что судья видел дела, где у кого-то есть претензии, кто-то пострадал, кому-то причинили убытки, после этого видит дело, где человек говорит: «Да все в порядке, я жил в конюшне, пять лет работал за еду, но считаю, что все нормально». Потом обвиняемый, говорит: «Я не трафикант, я просто человек с большим сердцем, который приютил обездоленного». Не будучи специалистом в этой сфере, можно сказать, что прокурор злоупотребляет, требуя арест. Можно не заметить заключение психолога, который написал, что человек перенес [психические] травмы и им очень легко манипулировать. Если трафикант выйдет на свободу, то пострадавший полностью изменит свои показания. Судья не успевает прочитать все эти материалы и освобождает обвиняемого из-под ареста.
«Я готов пройти аттестацию»
О нас, прокурорах, много говорят в обществе. Часть этих суждений правдивы, другие —спекуляция. Да, были случаи, когда коллеги нарушали закон, и это оставляло пятно на всей системе.
В истории прокуратуры было достаточно много таких пятен. Если общество решит, что систему можно реабилитировать только через внешнюю аттестацию, тогда честные и профессиональные люди не должны бояться этой проверки. Политики могут заниматься политическими играми, но [проведение аттестации] во многом зависит от общества и необходимости повысить его доверие к нам.
Я, например, готов пройти аттестацию, даже если в результате решат, что я недостаточно хорош для этой должности. Но пусть эту аттестацию проведут объективно. Главное, чтобы эту аттестацию не использовали, как инструмент мести тем людям, которые вели резонансные уголовные дела или неудобны каким-то партиям или интересам. Чтобы по итогам аттестации получить качество, должна быть качественная система перезапуска. И тогда, может быть, общество будет больше доверять системе.
Хотя прокуроры — не единственные в системе правосудия, к кому есть вопросы. Есть еще полицейские, судьи, адвокаты, судебные исполнители. Если мы должны быть эталоном, и с нас должны начать, то пусть начнут. Но после перезапуска прокуратуры и судебной системы нужен перезапуск других систем.
Вообще, я думаю, система прокуратуры может очиститься и сама. Предубеждение некоторых коллег, которые делали не совсем правильные вещи и думали, что им за это ничего не будет, уже рассеиваются. Мы знаем, рано или поздно приходит новое руководство и может статься так, что тот, кто вел расследования, становится подследственным. Мягко говоря, это причиняет дискомфорт.
История показывает, что надо вести себя правильно, независимо от того, кто находится у власти. В противном случае рано или поздно тебя привлекут к ответу. Это может сделать и твой нынешний руководитель. Бывали ситуации, когда некоторые прокуроры за время мандата одного и того же генпрокурора успевали подняться и упасть, потому что не выполняли свои обязанности. Это заставляет меня верить, что система может очиститься сама, но этот путь сложнее, чем [внешняя] аттестация.
Мария Фрунзе
«Один человек может изменить систему»
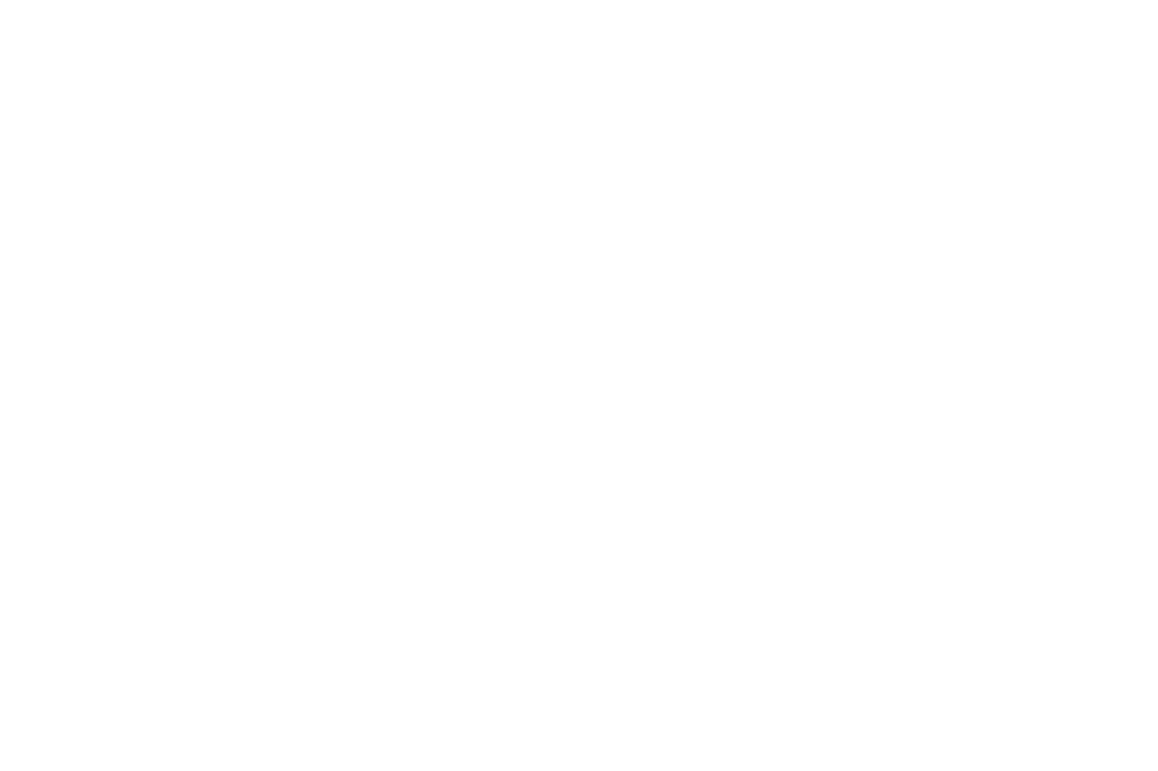
На одном игровом судебном процессе преподаватель, который был и моим куратором, предложил мне роль прокурора. Он сам был прокурором Антикоррупционной прокуратуры. Я отказалась, потому что чувствовала, что это — не мое. Тогда он дал мне роль судьи. После этого точно решила, что стану судьей.
Закончив университет, полтора года проработала секретарем судебных заседаний, год — ассистентом судьи. За это время окончательно поняла, что хочу стать судьей. Может, на это [решение] повлияли судьи, с которыми я работала. Я видела, сколько усилий они прилагали, чтобы помочь людям и защитить их права.
Потом я поступила в Нацинститут юстиции. Когда поступала, думала: если не пройду, значит, не судьба. Но я поступила с первого раза и окончила институт с отличием. Потом я стала судебным ассистентом при коллегии по уголовным делам в Апелляционной палате Кишинева. В 2017 году стала судьей по уголовным делам в суде Кишинева, а в 2019 году сменила специализацию и начала рассматривать гражданские дела.
«Иногда мне говорят „спасибо“ просто за то, что выслушала»
Сегодня очень сложно быть судьей. Почти все говорят, что система коррумпированная, что в Молдове невозможно добиться справедливости. На самом деле очень сложно вести процесс, если хотя бы один из его участников негативно настроен по отношению к судье только потому, что все говорят, какие судьи плохие и коррумпированные. Особенно сложно, потому что знаешь, что ты — честный человек.
Я ведь обычный человек, каждый день езжу на работу общественным транспортом с двумя пересадками. Думаю, что судебную систему часто ругают те, кто никогда не был в суде. Потому что во время рассмотрения дела человек может сам убедиться, что все не так, как он думал, а судья на самом деле защищает его права. И когда после длительного судебного процесса человек благодарит, независимо от решения, которое ты принял, это самое главное.
Иногда мне говорят «спасибо» за то, что просто выслушала, говорят: «Вы — единственный человек, который меня выслушал». Ведь это очень важно — выслушать человека, который столкнулся с проблемами.
Иногда в гражданском процессе человек выбирает ошибочную тактику защиты или обращается с необоснованной претензией не к тому ответчику. Получается, что иск необоснованный, и его необходимо отклонить. Но надо объяснить человеку, почему это произошло и сделать это так, чтобы он понял.
на рассмотрение к судьям, переходят на следующий год как задолженность. Значительная часть этой нагрузки приходится на ассистентов. Без них работать вообще невозможно.
Каждый день я прихожу на работу в 8:00, а иногда в 7:00, и никогда не ухожу раньше 20:00. Мой ассистент работает так же, как я, а иногда остается на работе и после того, как я ушла. В субботу и воскресенье многие мои коллеги приходят на работу. Когда в выходные дни захожу в суд сектора Центр, там так много людей, что появляется ощущение, что это обычный рабочий день.
Когда я сменила специализацию, мне ежедневно поступали на рассмотрение десятки заявлений. В один день их было 80. При этом у тебя в день по десять заседаний, но ты должен изучить эти заявления и решить, будешь ли их рассматривать или есть основания их отклонить как необоснованные. Думаю, мы все работаем так много, потому что любим эту работу. Если перестану получать удовлетворение от работы, то не смогу работать судьей. Я много раз говорила, что не держусь за кресло судьи.
Когда начинала работать, мне сказали: «Один человек не может изменить систему». Я ответила: может. Человек может сделать многое. Если он будет каждый день с полной отдачей выполнять свою работу, то сможет изменить систему. Один человек может изменить даже решения по делам, которые рассматривает коллегия из трех судей. Сначала ты один, но потом другие коллеги увидят, что ты поступаешь правильно и по закону, и обязательно последуют за тобой.
«Человека надо наказать, а у нас нет для этого законодательных механизмов»
Судья может изменить и судебную практику. Бывает, я по собственной инициативе поднимаю вопросы о конституционности каких-то норм, потому что вижу, что есть пробелы в законодательстве. Например, человека надо наказать, а у нас нет механизмов, чтобы это сделать. Когда начинала работать, я рассматривала гражданское дело о насилии в семье. Мать пятерых детей обвиняли в применении насилия к детям и бывшему мужу. Но ее нельзя было арестовать, ведь закон не позволял держать под арестом женщин, у которых есть малолетние дети.
Потом у меня был случай, когда муж-пенсионер избивал бывшую жену, но не признавал вину. Это была безвыходная ситуация: в рамках административного дела нельзя арестовать пенсионера, а также назначить ему общественные работы, если он не признает вину. Это был законодательный пробел, и я обратилась в Конституционный суд (КС), чтобы проверить конституционность этих норм. КС подтвердил, что эти нормы противоречат Конституции. После этого внесли изменения в Кодекс о правонарушениях, и сейчас обвиняемому по административному делу можно назначать общественные работы, даже если он не признает вину. И еще его можно арестовать, если это позволяет его здоровье.
Но, чтобы поднять вопрос о конституционности каких-то положений закона, надо изучить местное и международное законодательство в этой сфере, объяснить, почему ты считаешь какие-то нормы неконституционными, а затем участвовать в заседании КС, на котором рассматривают твой запрос. На все это уходит личное время, которого у тебя и так нет.
Мало кто знает, сколько работы и бессонных ночей может стоять за решением по делу. Часто для этого тоже надо просмотреть национальное и международное законодательство по теме, судебную практику и практику ЕСПЧ.
Бывает, когда рассматриваешь дело, чтобы понять его суть, надо разобраться в вопросах, связанных с медициной, или с банками и финансами, или с энергетикой. Да, можно вызвать экспертов, но лучше понять самой.
Нередко дело, которым ты занимаешься, не отпускает тебя ни на минуту. До сих пор помню дело о бесчеловечном обращении учительницы с учеником начальных классов. Это было в период моей работы судебным ассистентом в АП. Это было одно из первых дел в Молдове, которое завели по статье 166 Уголовного кодекса (пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение).
В этой статье есть несколько частей, и только одна из них касается непосредственно пыток. Чтобы квалифицировать какие-то действия как пытки, должен быть очень серьезный уровень преступления. Тогда речь шла все же не о пытках, а о бесчеловечном обращении. Чтобы понять, правильно ли прокурор квалифицировал дело, правильно ли обвинили учительницу, мне пришлось изучить много литературы: докторские диссертации, статьи, решения ЕСПЧ. Мы осудили учительницу, и Высшая судебная палата (ВСП) оставила это решение в силе. К сожалению, пока дело рассматривали в ВСП, ребенок попал в ДТП и умер. Я надеюсь, таких случаев больше нет.
Еще одна проблема, которая очень осложняет работу судей, — отсутствие доступа ко многим базам данных, в том числе кадастра и регистра. Мы не можем даже узнать, в какой тюрьме содержат подсудимого или свидетеля. С 2017 года все говорят, что судьям предоставят доступ к этим базам данных, но ситуация остается без изменений.
Сейчас в суде сектора Центр только у главы секретариата есть возможность узнать, где живет человек. Недавно мы получили возможность проверять, живы ли люди. У нас очень много заседаний, которые проходят без вызова сторон в суд. Бывает, что в делах о неоплате коммунальных услуг ответчик мертв или умер, пока рассматривалось дело. Я не понимаю, почему у сотрудников полиции, приставов есть доступ к этим базам данных, а у судей — нет. Хотя именно судьи проверяют действия остальных органов. И нам приходится писать запросы, хотя вопрос можно решить за два клика.
А еще есть сроки, в течение которых мы должны принимать решения. Например, дается 24 часа на то, чтобы рассмотреть запрос на выдачу ограничительного предписания для защиты жертвы семейного насилия, три дня — на рассмотрение вопроса о принудительной госпитализации. Есть еще много категорий дел, которые нужно рассмотреть за 30 дней. Конечно, мы прикладываем много усилий, чтобы успеть. Но, когда пострадавший просит у тебя дополнительное время, чтобы представить новые доказательства или найти адвоката, ты не можешь нарушить его право на защиту. Даже ЕСПЧ признал, что соблюдение права на защиту важнее соблюдения процессуальных сроков.
И получается: с одной стороны, ты не можешь нарушить права человека из-за предписанных законом сроков, с другой — это приводит к увеличению числа жалоб на нарушение срока рассмотрения дел.
Чтобы этого избежать, необходимо на законодательном уровне изменить эти сроки. Но в первую очередь надо уменьшить объем работы судьи. Возможно, для некоторых типов дел нужно ввести процедуру досудебного урегулирования конфликтов — медиацию. Ее можно применять в семейных делах или в случае коммерческих исков.
Чтобы улучшить качество судопроизводства, надо также организовать обучение секретарей судебных заседаний и ассистентов. Сейчас новички приходят на эти должности неподготовленными, и судьям самим приходится их учить. Но, учитывая объем работы и низкие зарплаты этих сотрудников, часто через несколько месяцев они увольняются и приходится учить новых. Поэтому, кроме организации их обучения, им нужно увеличить зарплаты. Это относится и к сотрудникам канцелярии. Сейчас в канцелярии суда сектора Центр заполнена только половина штата. Это приводит к переработкам, стрессам и болезням.
Мы живем в 21 веке, и, когда весь мир переходит в онлайн, особенно после пандемии, у нас в судебной системе все остается на бумаге. Не говоря уже о том, что в некоторых залах судебных заседаний нет компьютеров, чтобы судья мог, не прерывая заседание, что-то проверить. Если перевести всю бумажную работу в цифру, это, кроме прочего, сэкономит немало денег, которые уходят на бумагу. Даже заявления, которые поступают в суд по электронной почте, распечатывают на бумаге.
Можно проводить онлайн и некоторые заседания суда. Это положительно отразится и на адвокатах, которым не надо будет тратить время на дорогу, а у них бывает по несколько заседаний в день в разных судах. Но сейчас у нас нет четкого регламента проведения онлайн-заседаний. Хотя в разгар эпидемии в Нацадминистрации тюрем убедились, насколько это удобно. Ведь отправить заключенных по судам всей страны — очень сложно и затратно. Например, дело рассматривают в Кишиневе, а подсудимого содержат в тюрьме в Резине. Сначала его привозят в кишиневскую тюрьму № 13, которая, как известно, и так переполнена, а потом уже в суд. А если заседание проходит онлайн, экономятся деньги на перевозку заключенных.
«Много надежд связано с общим собранием судей»
Сейчас много внимания уделяют обучению [повышению квалификации] судей и прокуроров, меньше — следователей. С учетом моей работы судьей по уголовным делам могу сказать, что очень важно проводить тренинги для следователей и оперативников. Ведь именно они выезжают на место преступления. От качества их работы зависит качество всего уголовного дела. Если на этом этапе были нарушения, это может привести к тому, что некоторые улики придется исключить или даже закрыть уголовное дело.
Сейчас много говорят о внешней аттестации судей и прокуроров. Я готова ее пройти. Но не стоит забывать, что 1 октября 2021 года будет общее собрание судей. На нем мы должны выбрать новых членов Высшего совета магистратуры, Коллегии оценки деятельности судей, Дисциплинарной коллегии. Это реальный шанс основательно изменить ситуацию в системе.
Это знаковая дата для судебной системы. Еще никогда не выбирали так много новых членов этих важных для судебной системы институтов. Если бы у меня была возможность, я бы призвала своих коллег подать как можно больше заявлений на участие в конкурсах на должности в этих органах самоуправления судей.
Я верю, что у Коллегии оценки деятельности судей достаточно возможностей для проверки судей. Хотя, на мой взгляд, надо изменить регламент и критерии оценки. Сегодня больше внимания уделяют числу решений, которые принял судья, а не их качеству. Много надежд связано с 1 октября. Это значит — новые люди в ВСМ. Я думаю, что после этого ситуация улучшится.
Конечно, от судей зависит очень многое, но не только от них. Изменение ситуации в стране зависит от каждого из нас. Мы все должны приложить усилия, чтобы жизнь в Молдове стала лучше.
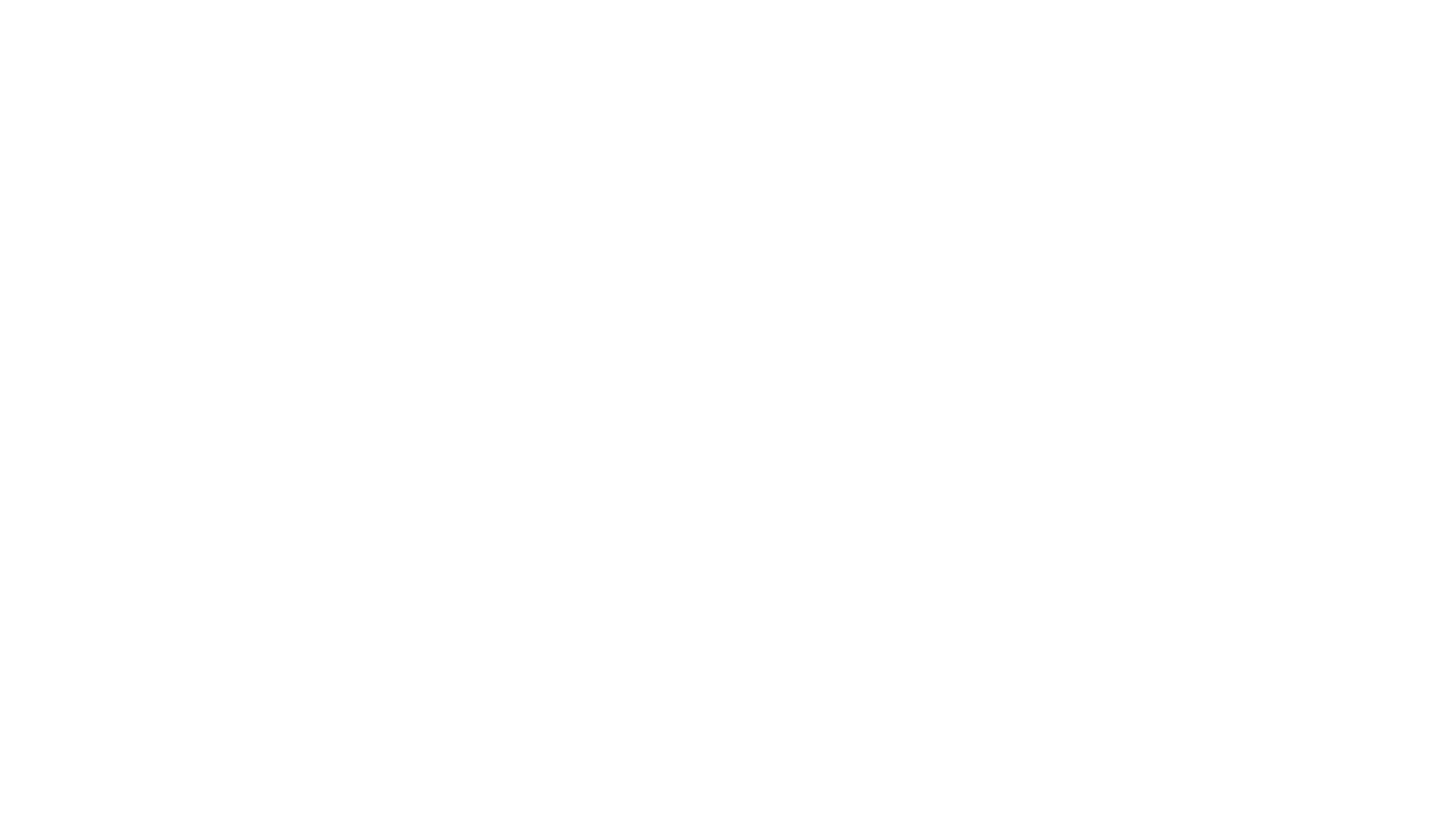
Потом я четыре года проучилась в докторантуре по трудовым искам, а затем расширила специализацию.
Одно из самых запоминающихся дел, которое я вела, касалось усыновления. У одного из биологических родителей появилась новая семья, и он хотел получить полную опеку над ребенком. Второй биологический родитель был категорически против. Это было сложно. Много бюрократических вопросов и противоречий. На разных этапах по этому делу высказывались управление защиты прав ребенка и различные судебные инстанции. Каждый интерпретировал проблему по-своему. Я добилась, чтобы дело разделили на несколько отдельных, и решение по каждому из них служило аргументом при рассмотрении следующего. К тому же всем приходилось напоминать, что интересы ребенка превыше всего.
При этом ребенок не должен был узнать о судах и о том, что у него появится новый родитель. Судебные процессы тянулись четыре года. Они начались, когда ребенку было пять лет, а закончились, когда ему исполнилось девять. Несмотря на сложности, мне удалось держать это дело в секрете от ребенка. В итоге мы выиграли суд. Не хочу говорить, что это была удача. У адвокатов не бывает удачи, есть работа. Но я впервые увидела, как судья перестает быть формальным и эмоционально вовлекается в происходящее. Это дело очень повлияло на меня — поразила борьба этих людей, я многому у них научилась. И благодаря этому случаю поняла, что все, что я делаю, стоит того.
«Прокурор сказал мне: я не имею к этому отношения»
В 2018 году экс-судья Апелляционной палаты (АП) Домника Маноле предложила мне взяться за ее дело. Я уже достаточно много знала о нем. Помните те кадры, когда она вышла с заседания ВСМ и плакала перед протестующими? Это была уникальная ситуация, которая касалась одного судьи, но была серьезным сигналом для остальных судей. Когда Маноле меня пригласила, из ее кабинета забирали компьютер. Я сразу же приехала и согласилась работать по этому делу.
Не могу сказать, что, взявшись за него, я столкнулась с очевидным давлением, как это было у других адвокатов, но я видела отношение судей, которые рассматривали дело. А после того как директор центра судебной экспертизы дала свидетельские показания в суде, она пожаловалась на меня в комиссию по этике [при Союзе адвокатов]. Это выглядело настолько подозрительным и срежиссированным, что прокурор, который вел дело Домники Маноле, сказал мне в коридоре суда: «Не думайте, что я имею к этому отношение». Было очевидно, что это была попытка меня запугать. Совет адвокатов отклонил ее обращение. Потом меня оштрафовали за то, что они на час перенесли заседание, а я не успела на него вернуться, потому что должна была присутствовать на заседании Совета Союза адвокатов.
Первый год работы в Центре мне не платили зарплату, не было ни команды, ни секретаря. Нужно было построить дом посреди пустыни, но никто не знал, как это сделать. Со временем у нас появилась группа из 40-50 практикующих адвокатов, которые вели курсы в Центре. Они тоже делали это как волонтеры. При организации курсов мы учитывали то, чему хотят научиться сами адвокаты. За три года более тысячи адвокатов прошли курсы в Центре. Многие возвращались несколько раз, потому что адвокаты приходят ради профессионального роста, а не потому, что их заставляют. В противном случае, они будут сопротивляться. Многие адвокаты рассказывают, что благодаря курсам выигрывают дела. Это есть и главная цель работы Центра. Мы отстаем от других профессий. Нацинститут юстиции, в котором готовят будущих прокуроров и судей, работает 15 лет, а Центр — только три года. И то, что мы сделали, — это маленький фундамент. Для улучшения качества профессии необходимо больше времени.
Некоторые думают, что работа Центра должна быть похожа на работу юридического факультета. На самом деле ни адвокаты, ни я, ни тренеры-эксперты не хотят приходить на юрфак. Через три с половиной года мы поняли, что подход, основанный на практических занятиях, был правильным. На курсах мы объясняем, как применять закон, понимать новые нормы, решать конкретные случаи. Например, мы начали спецкурс, который посвятили разработке стратегии защиты. Адвокаты-тренеры передают свой опыт от начала разработки стратегии до ее применения на практике и анализа успехов и неудач этой стратегии. И этот подход более прогрессивен, в других адвокатских школах такого нет. Мы дошли до того, что коллеги из-за рубежа, с которыми я раньше советовалась, теперь советуются со мной. Еще у нас были курсы написания процессуальных текстов, аргументации, управления стрессом и даже по коммуникациям.
«Я думала отказаться от работы из-за физической и психической нагрузки»
В последнее время я все чаще думала отказаться от этой работы из-за физической и психологической нагрузки, так как почти всю работу выполняла сама, а мне нужна была команда. Я работала по 12-14 часов без выходных, чтобы обеспечить работу Центра. Каждый раз обсуждала это с партнерами и адвокатами, которые вели курсы, и адвокатами, которые приходили на наши курсы. Они меня поддерживали. Если бы не они, я бы ушла.
Последний раз я думала об увольнении из-за некоторых разногласий между работой Центра и Советом Союза адвокатов. С тем, что они хотят внедрить, не согласны ни адвокаты, которые приходят на курсы, ни те, которые их ведут. Если мы не придем к согласию, работа Центра окажется заблокированной.
До сих пор, выбирая адвокатов-тренеров, мы приглашали профессионалов, с репутацией. Но, когда у нас наконец появилась команда, которая три с половиной года бесплатно откладывала свои дела и посвящала себя обучению адвокатов, появился новый регламент. Теперь эксперты должны подавать заявления на проведение курсов и участвовать в конкурсе. Многих это не устраивает, некоторые уже отказались с нами сотрудничать. Есть риск, что положение ухудшится.
Сейчас Совет [Союза адвокатов] проводит конкурс для создания Совета Центра обучения адвокатов. Создание такого Совета прописано в регламенте 2018 года, но тогда мы не знали, что делать, а теперь и адвокаты, и Совет Европы признали, что подобный Совет не нужен. Это еще пять должностей. Я не понимаю, зачем людям нужны должности, чтобы «подставить плечо» Центру.
Я буду думать об увольнении до тех пор, пока не буду уверена, что с работой Центра будет все в порядке, и ему не грозят ни возможная блокировка, ни бюрократизация учебного процесса. Адвокатам нужна мирная и креативная атмосфера. Центр — это в первую очередь интеллектуальная энергия. Если его превратят в подобие юридического факультета, сами адвокаты будут против.
«Коррупционные риски увеличились»
В марте 2021 года я обратилась к президенту Майе Санду и попросила ее не подписывать поправки к закону «Об адвокатуре». Их держали в секрете, но, после того как я прочла документ, поняла, что в нем много спорного. Некоторые адвокаты не согласились с моей позицией. Они слышали, что поправки пойдут на пользу всем защитникам. Однако мало кто из них прочитал законопроект полностью, так как он был недоступен. Теперь, когда закон опубликован, все могут убедиться, кто был прав, и что за этим стояло. Вызывает вопросы и то, что закон поддержали три парламентские партии, у которых не было консенсуса. Изменения приняли практически ко всем статьям. Если надо изменять каждую статью, то нужен новый закон, а не латание старого. В каждой из этих партий есть адвокаты, но есть и юристы-кандидаты, которые хотят стать адвокатами. И закон разрешил судьям и прокурорам с шестилетним опытом стать адвокатами, не сдавая экзаменов. Все адвокаты считают, что это плохо.
Закон изменяли якобы для того, чтобы снизить уровень коррупции в адвокатуре. Я думаю, что коррупционные риски только выросли. Например, Комиссии лицензирования адвокатской деятельности, которая состоит из одиннадцати человек: шесть из них будет избирать Конгресс, а пятерых — предлагать региональные коллегии. То есть не будет никакого конкурса и четких критериев отбора. Комиссию, в которой можно обжаловать решение лицензионной комиссии, будет выбирать Совет Союза адвокатов. Это будут пять человек, которые смогут изменять решения лицензионной комиссии. О какой независимости идет речь? Получается, что с доступом в профессию положение дел только ухудшилось.
А Совет Союза адвокатов получил еще и почти абсолютные полномочия. Чтобы заседание состоялось, в нем должны участвовать минимум 8 из 14 членов, а решение может принимать простое большинство присутствующих. Получается, пять человек смогут решать все что угодно. Это тоже хуже, чем было.
Кроме того, Наццентр борьбы с коррупцией дал негативное заключение закону. В НЦБК отметили, что речь идет о конкретных факторах коррупции, взятках и извлечении выгоды из влияния.
Учитывая, что главная цель новой власти — борьба с коррупцией, необходим новый закон «Об адвокатуре» созданный при участии адвокатов. И эти изменения должны исходить от самих адвокатов.
Еще судьям надо дать возможность провести общее собрание и выбрать новый состав ВСМ. Им надо дать понять, что больше нет никого, кто может им звонить и давать указания. Когда судьи поймут, что их больше не могут шантажировать, в юстиции начнутся большие изменения. В судебной системе есть группа молодых судей-реформаторов. И даже судьи более старшего поколения из вторых и третьих инстанций хотят изменений, но пока об этом публично не говорят. Без них молодым судьям не удастся что-то изменить. Но, разумеется, есть и те, которые должны уйти из системы.
Я верю, что через несколько лет у нас будет независимая юстиция. Она всегда была более или менее свободной, но никогда не была независимой. Но сейчас, когда впервые за 30 лет правая партия получила такое число голосов в парламенте, почему бы не дать и системе юстиции кредит доверия.
«Давайте подумаем, где допускают больше ошибок»
Есть еще важный момент. Когда мы говорим о реформе юстиции, надо понять, что именно не работает. Прежде чем говорить, что все плохо в правовой системе, надо определить, с какой точки зрения все плохо. Если с административной, тогда речь идет о ВСМ и коллегии при нем, если с правовой, то речь идет о качестве самих судей. Но давайте подумаем, где допускают больше ошибок? В первой инстанции, второй или третьей? Давайте больше внимания уделять деталям и менять что-то по этапам. Нужно убрать из законов все неточности.
Реформа юстиции должна коснуться и ВСМ, и Института юстиции, и прокуратуры, и минюста, и Союза адвокатов и даже факультетов права. Надо произвести комплексные изменения. Если у кого-то есть интерес в слабой адвокатуре — то таким образом не добьешься правосудия, так и с прокуратурой, которую используют в качестве биты. Да и в Высшей судебной палате (ВСП) есть судьи, которые столько раз дискредитировали судебную систему. Например, в 2019 году у бывшего главы ВСП Иона Друцэ нашли в кабинете список политических дел с указаниями, какие решения по ним надо принять. Если такое происходит в ВСП, это влияет на всю систему юстиции.
«Захвачено не государство, а люди»
Сейчас ведут разговоры о внешней аттестации судей. Об этом говорят с 2018 года, но только сейчас появилась политическая воля для ее проведения. Я знаю, что судьи не боятся этой аттестации. Но тут идет речь о профессиональном достоинстве. Давайте будем серьезными. Я бы не хотела, чтобы меня оценивал посторонний человек, а не адвокат. Я даже не хотела бы, чтобы эту оценку проводил судья. На примере дела Домники Маноле я впервые увидела, что профессия судьи и адвоката кардинально отличаются. Я говорила с судьями, и они сказали, что уволятся, если будет внешняя аттестация. Причем очень хорошие судьи. Вообще я верю, что судебная система может провести аттестацию своими силами, ведь у них есть коллегии по оценке.
Но даже если провести аттестацию, за одну ночь ничего не изменится. Вообще после лета 2019 года я не почувствовала изменений. Тогда говорили, что мы перестали быть «захваченным государством», но у нас люди «захвачены» сильнее, чем государство. Судьи, прокуроры, на руководящих должностях многие позволяют себя «захватить». Это не изменяется, если просто отстранить кого-то от руководства. Владимир Плахотнюк мог контролировать умы людей до тех пор, пока они сами позволяли это делать. Поэтому ничего не изменилось. В судах все те же люди. Если меня спросить о том, с какими проблемами сталкивается юстиция, я отвечу: «Все зависит от решений, которые принимают люди, работающие в этой системе».
«Если система не хочет изменяться,
в процесс вмешаются политики»
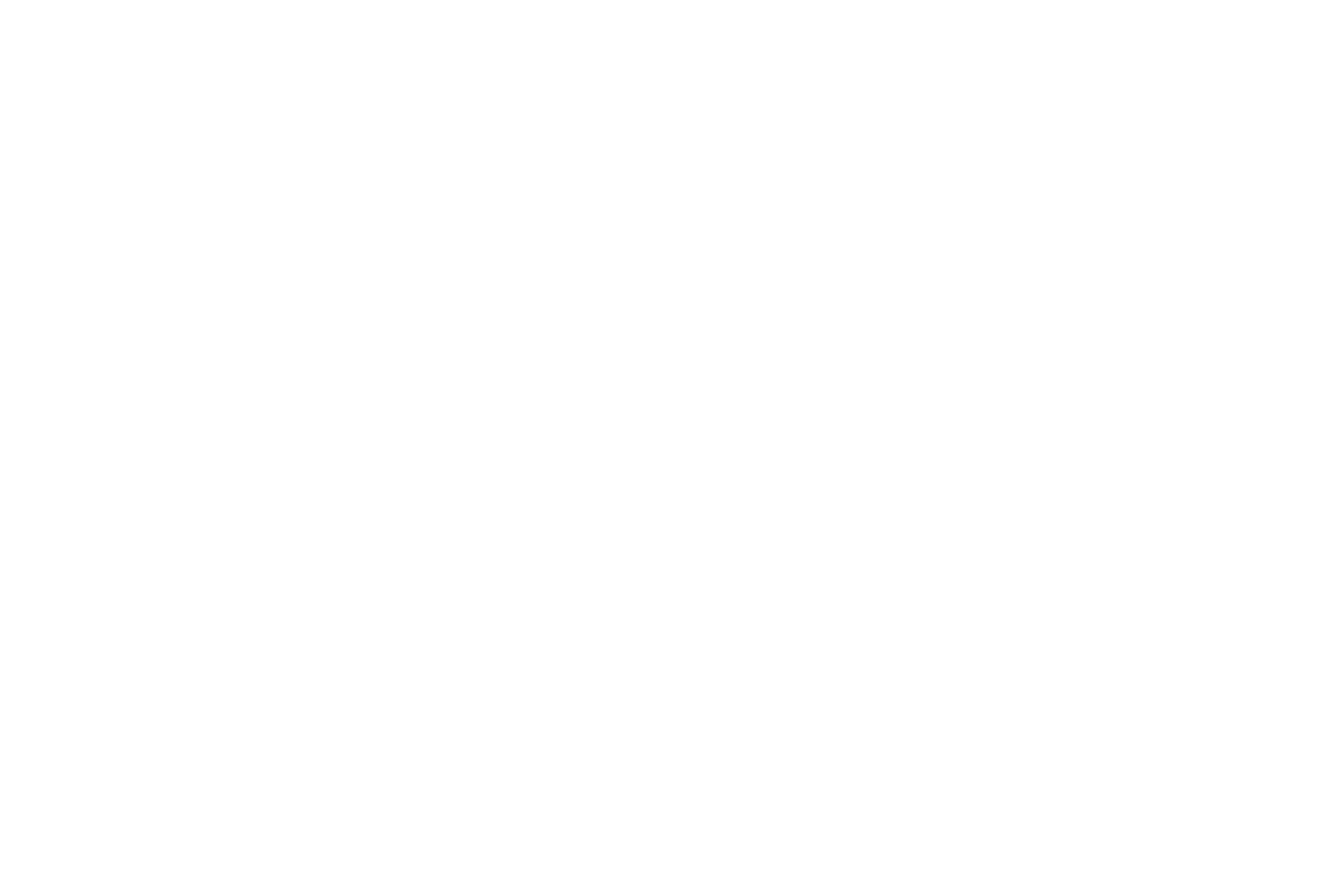
Работая судьей, важно сохранять хладнокровие. Да, ты пропускаешь через себя дела, которые рассматриваешь, но, чем ближе к сердцу ты все принимаешь, тем сложнее работать. У меня была коллега, которую назначили судьей в один день со мной. Она проработала восемь месяцев и подала в отставку. Ее задевало каждое дело, она слишком эмоционально вовлекалась в работу. Обычно люди не уходят из системы просто так. Вернее, есть такой стереотип, что судьи обеими руками держатся за свои кресла. Но ей было сложно и именно не в профессиональном, юридическом плане, а эмоционально.
«Каждый пытается доказать, что он— хороший»
Из-за каждого дела ты по-своему переживаешь, но нужно устанавливать границы, иначе будет очень сложно. Поэтому, возвращаясь домой, стараешься забыть о деле и уделить внимание семье. У меня было одно дело — надо было определить, с кем из родителей будет жить ребенок. На самом деле это болезнь многих семей — бывшие супруги мстят друг-другу, используя ребенка. Каждый пытается доказать, что он хороший, а оппонент — плохой. В тот раз даже мать бывшего мужа пришла в суд и жаловалась, что не видит внука. С одной стороны, она рассказывала о сути дела, но в сущности — просто жаловалась. Я не выдержал и сказал им: «Люди добрые, я приму законное решение, исходя из обстоятельств этого дела. Пока вы не поймете, что ребенка нельзя использовать, чтобы сводить счеты, это не пойдет ему на пользу. Вы должны забыть личные обиды и найти общий язык, чтобы он мог нормально общаться и с мамой, и с папой, и с бабушками, и с дедушками». Таких судебных тяжб очень много. Ты видишь это и пытаешься им это объяснить, насколько позволяет статус судьи. Да, ты не можешь перейти границы дозволенного [судье], но иногда, оглашая решение, знаешь, что по закону оно правильное, но у тебя есть сомнения, что в этой семье все будет хорошо.
Другое дело, о котором я очень много думал, касалось мэра, которому я присудил тюремный срок. Тогда вообще не было принято давать чиновникам реальные сроки. Их или оправдывали, или давали условные сроки. А тут приходит судья Ион Маланчук и дает ему шесть лет лишения свободы. C одной стороны, ты понимаешь, что речь идет о судьбе человека, с другой — речь идет о преступлении, с третьей — ты понимаешь, что речь идет о политике. И, если назначишь наказание, все равно появится интерпретация, что наказание может быть связано не с преступлением, а с его политической принадлежностью.
Но, кроме кадровых перестановок, нужны еще перемены в менталитете. Да, сейчас появилось несколько молодых судей, которые открыто критикуют положение дел в системе. Но я бы не сказал, что это существенно влияет на положение дел. 3 декабря у нас будет общее собрание судей, на котором мы должны выбрать новых членов Высшего совета магистратуры (ВСМ). Посмотрим, в какой мере новые взгляды нашли отклик в системе. С одной стороны, я достаточно скептичен, с другой — надеюсь на перемены к лучшему.
В 2019 году мы с коллегами [Викторией Сандуцей и Мариной Русу] основали ассоциацию судей Vocea Justitiei. Это очень просто — мы хотели создать платформу, чтобы судьи могли проявлять свою позицию. У нас есть Ассоциация судей, в которой ты практически не можешь выдвинуть на обсуждение ту или другую тему. Там все было жестко по иерархии. Те, кто сверху, смотрели на тех, кто снизу, как на кого-то, кто просто должен обеспечивать численность. Это был как аксессуар управляющих системой. Я считаю, что ассоциация — это общественная организация, а не аксессуар ВСМ. В нашей ассоциации мы хотели дать возможность высказаться всем, кто хочет.
«Систему нужно очистить от людей, которые не заслуживают в ней находиться»
Я был одним из немногих судей, кто поддерживал идею экстренной аттестации. И не важно, внешней [c привлечением международных экспертов] или внутренней [без привлечения экспертов]. Я до сих пор думаю, что это хорошая идея, но меня настораживает, что власти еще не понимают, как это сделать эффективно и законно. У меня есть опасения, что они действуют на ощупь, без внятного плана. Но я думаю, такая мера необходима. Только нужно хорошо обдумать все механизмы. В Сербии, Украине и Албании эта затея не прошла на ура. Да, где-то результаты получше, где-то похуже.
В системе действительно много проблем. И я не думаю, что внутри системы есть реальное стремление к переменам. Но если система не захочет изменяться, очевидно, что в процесс вмешаются политики. Они получили мандат от народа, и народ требует этого. Это объективная реальность и никуда от нее не уйдешь. Но все надо делать по закону. Посередине остаются судьбы людей. Судью надо уволить, если он заслужил этого, а не потому, что дядя Василий или тетя Иона так сказали. В конце концов, в каждом судебном процессе есть две стороны, и одна из них всегда останется недовольной. Поэтому надо провести аттестацию так, чтобы действительно очистить систему от людей, которые не заслуживают в ней находиться.
Недавно был другой случай — у судей был крик души по поводу того, что Конституционный суд оставил в силе решение парламента о снижении судейских пенсий. Тогда все суды первой инстанции страны, кроме трех, опубликовали совместную декларацию, в которой осудили это решение. Апелляционные палаты (АП), и Высшая судебная палата (ВСП) не поддержали эту инициативу. Тут было видно разделение по инстанциям разных уровней. В принципе, вся критика достается судьям АП и ВСП, и в этой ситуации они предпочли набрать в рот воды. А те, на кого смотрят, как на надежду системы, рискуя навлечь на себя критику, посчитали необходимым выступить публично и рассказать, что судье сложно быть независимым без социальных гарантий.
«Системе нужен положительный импульс»
Пока сложно сказать, пытается ли новая власть взять судебную систему под контроль. В Криулянском суде, где я работаю, когда некоторые считали, что государство «было захваченным», не чувствовалось давления. Может и потому, что мы находимся на периферии. Не могу утверждать, что, если бы туда попало какое-то резонансное дело, никто бы не попытался сказать, какое по нему надо принять решение. Хотя у нас в суде достаточно сильные судьи, на которых сложно повлиять, кто бы ни находился у власти. Что происходит в Кишиневе? Прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Но я надеюсь, что над ними не установят политический контроль. Я пока не видел никаких попыток это сделать.
Вообще, я думаю, что системе нужен положительный импульс, чтобы изменить положение дел и менталитет. Только так можно изменить положение дел в короткие сроки. Необходимо переосмыслить роль судьи, и то, как его воспринимает общество, и то, в чьих интересах он работает. В нашей судебной системе и в системе прокуратуры есть много людей с устаревшим менталитетом, корни которого идут из советских времен. Я думаю, что это препятствует развитию. Если мы, судьи, сами осознаем это или же нас мотивируют это осознать с помощью той же внешней аттестации, тогда могут начаться позитивные изменения. Иначе на ближайшие 30-40 лет мы останемся на месте.
Нам нужен серьезный импульс. Если не найдется мотивации внутри системы, то эта мотивация должна прийти извне. Сама идея проведения внешней аттестации должна была стать мощным импульсом к изменениям, но я их не увидел. Люди в системе просто не понимают, что их ждет и что им грозит. Многие думают, что ничего не изменится — уже были политики, которые обещали реформы, но ничего не сделали. Но я думаю, именно из-за того, что ничего не меняется, политики захотят дать нам этот импульс.
«Система — отражение того, что происходит в обществе»
Может ли все остаться по-старому, после того как систему очистят? Система — отражение того, что происходит в обществе. Если в работе властей у нас по-прежнему будут распространены кумэтризм, коррупция и непрозрачность, тогда ничего не изменится. Нельзя ждать изменений, если ты сам не хочешь меняться. В Молдове как происходит? Люди, вроде, хотят хорошую систему юстиции, но, если речь идет об их делах, они не против того, чтобы для них сделали исключение.
Невозможно изменить юстицию без изменения менталитета. Если политики в один день решат: «Все, мы больше не вмешиваемся в юстицию, пусть поступают по закону, давайте создадим судьям нормальные условия работы, улучшим законы», — вот тогда есть шанс, что очищенная система будет работать по-новому.
Фото: Татьяна Султанова, Андрей Мардарь


