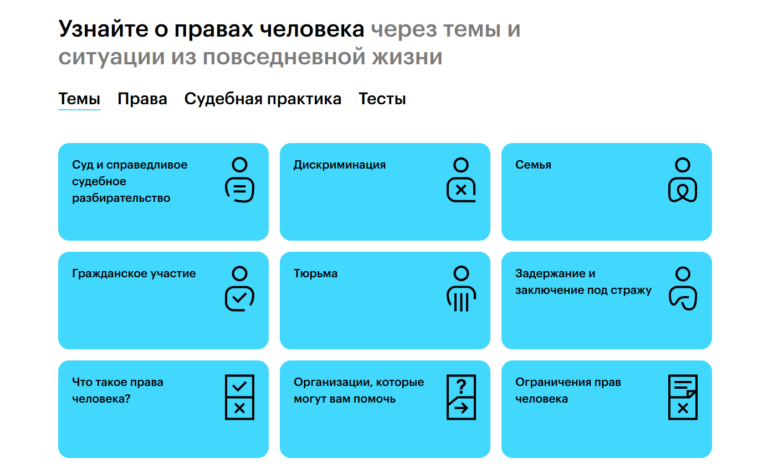Уроженец Молдовы, всемирно известный пианист Александр Палей вновь посетил Кишинев, чтобы сыграть на фортепиано немецкой марки «Блютнер», которое при его содействии компания-производитель подарила оркестру Молдавской филармонии. NM поговорил с пианистом о важности восстановления сгоревшей филармонии, роли культуры в сложные времена, и об уютном самобытном Кишиневе, который мы постепенно теряем.
«Когда сгорела филармония, у меня было ощущение, что сгорело мое детство»
Давайте начнем разговор с причины вашего приезда в Молдову, и с того инструмента, который филармония получила с вашей помощью.
Знаете, я счастлив, что смог это сделать. Расскажу вам историю. «Блютнер» — мои любимые инструменты. Когда я был малышом в школе — здесь, в Кишиневе — «Блютнеры», тогда их производили в ГДР, были основными инструментами. Я на этом вырос. Нынешние «Блютнеры» — совершенно другие.
Компания не без оснований гордится тем, что она — единственная крупнейшая фортепианная компания в мире, которая до сих пор принадлежит семье. «Стейнвей» обанкротился, «Безендорфер» купила «Ямаха». Кристиан Блютнер — нынешний владелец этого семейного бизнеса — блестящий парень, совершенно изумительный, мы очень близкие друзья. Я играл этим летом концерт в «Гевандхаузе» в Лейпциге, на Фестивале Баха. Он поставил мне изумительный рояль. После концерта мы едим, пьем, как обычно, и Кристиан расспрашивает меня про Кишинев. Я отвечаю: «Веселого мало, филармония сгорела, и, несмотря на то, что Мариан Стырча прилагает огромные усилия, чтобы ситуация изменилась, пока это просто руины. Это несчастье, и рояли сгорели, в общем, ничего нет». И он мне говорит: «Ты знаешь, я сделаю подарок. Вот телефон моего секретаря, пусть твой друг Мариан свяжется с ней». Это был очень красивый жест.
И спустя пару недель рояль был здесь. За это ему огромное спасибо.
И я приехал в Кишинев, вообще я каждый год приезжаю. Стараюсь, по крайней мере. В этот раз совпало с торжественным открытием рояля. Рояль изумительный. Блютнеры постоянно ищут что-то. Брат Кристиана — Кнут Блютнер — занимается механикой инструмента, он постоянно в поиске. Кроме того, любой инструмент имеет свою специфику. У «Блютнера» всегда, еще с прошлого века, называли это «золотой тон». Старые «Блютнеры», довоенные, были удивительными. После войны все стало иначе, а теперь инструменты все больше и больше напоминают старые «Блютнеры» удивительной красотой тона.
Я всегда очень счастлив бывать в Кишиневе, а тут — такое событие.
Получается, что фортепиано останется в Молдове — в надежде на то, что скоро у нас появится отреставрированное или отстроенное заново здание филармонии?
Очень надеюсь, что появится. Я вот присутствовал, когда представляли проект. Он замечательный, но стоит астрономическое количество денег, которых нет, и его реализация займет очень много времени. Считаю своим маленьким экономическим умом, что куда дешевле и быстрее было бы отреставрировать то, что есть, потому что стены, слава богу, стоят. Понимаете, там ведь прошло все мое детство, я слышал там абсолютно всех великих, сам играл сто раз. Когда сгорела филармония, у меня было ощущение, что сгорело мое детство.
Я отвожу культуре самое главное место в развитии общества, потому что будущее — это не количество денег, которое у вас есть, а то, что творится в умах молодых. Им жить дальше. Если столица республики не имеет филармонического зала — это ужасно. Да, оркестр филармонии играет в другом зале, я тоже там играл, там хороший зал и акустика неплохая, но это — не свое, это не дом. В филармонии я слушал великих музыкантов, а когда подрос и сам начал играть, я там с ними со всеми познакомился. Они всегда с благодарностью вспоминали Кишинев и Филармонический зал, его хорошую акустику и уют. Это был центр культуры, а сейчас его нет.
Здание достаточно привлекательное, его реставрация заняла бы меньше времени, и деньги были бы не такие большие. Это чисто мое мнение как кишиневца и музыканта. Я знаю здесь практически всех музыкантов моего поколения и младше, и никто не счастлив, что филармонии нет. Это очень тяжко. Слава богу, никто не погиб, но сгорела библиотека — там вся история молдавской музыки. Сгорели неизданные манускрипты.
И вряд ли мы сейчас можем оценить масштаб того, что потеряли?
Это — трагедия, самая настоящая трагедия. Да, такое случается. Это случалось и в прошлом, и в разных странах, но надо же что-то делать. Проекты, аплодисменты — это прекрасно, но я думаю, что хлопать надо, когда перед нами будет стоять готовое здание.
То есть пока вы не видите определенных действий или усилий компетентных ведомств?
Я приезжаю сюда раз в год. Прошло уже несколько лет с тех пор, как сгорела филармония. Она и стоит. Что я могу вилеть? Это очень печально, отчасти потому, что Молдавия моего детства была очень культурной страной. Наша профессура и люди в оркестре учились в Париже, в Вене. Родными языками моей первой учительницы были французский и итальянский, она родилась в Париже, училась в Милане. И не она одна. Там был удивительный уровень, флер старой культуры. А сейчас он исчезает. Я считаю, что нельзя построить ничего нового, совершенно абстрагируясь от того, что было раньше, потому что культура — это память.
«Раньше у Кишинева был удивительный шарм»
Но память, наверное, бывает избирательной. Старый Кишинев с его маленькими улочками и домами уходит в прошлое.
Да, конечно, и это происходит не только в Кишиневе. Я не молодой человек, но и не настолько старый, чтобы говорить: «Вот, в мое время было лучше». Всегда было что-то плохое, но это — другой вопрос. Раньше Кишинев имел удивительный шарм, это был очаровательный южный город — со своими плюсами и минусами, но у него определенно было лицо.
Какой он был? Такой городок на окраине?
Нет, почему городок? По сравнению с Вильнюсом, где я живу, Кишинев — больше. Он не такой уж маленький город. Но в нем было что-то, чего в других городах вы найти не могли. А теперь я вижу надстроенные коробки, причем абсолютно безвкусно. Мы с Марианом были на Телецентре, там — безобразие: одна коробка желтая, другая странно выдается в сторону. И город в итоге стал каким-то бестолковым, стал собранием коробок. Конечно, то новое, что строится, бывает красивым. Но вот мы с другом гуляли по парку и увидели, что за Кафедральным собором построили здание, которое его абсолютно убивает.
Знаете, я очень много играл и играю в Китае, я люблю эту страну, я был, например, в Гуйяне — городе с 15-миллионным населением и центром, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. XVIII век, китайское барокко, невероятно интересно, а вокруг — огромные здания, но это не мешает, все очень гармонично сочетается. Они заботятся о том, чтобы у города было свое лицо.
Но я не хочу быть очень критичным, я приезжаю не в гости, а к себе домой. Поэтому могу рассуждать не с точки зрения капризного гостя. Нельзя жалеть о том, что ушло, уходит многое — вопрос в том, что приходит на смену.
А, может быть, вопрос еще и в том, что мы оставим после себя?
Совершенно верно. Сейчас мы читаем письма великих музыкантов, писателей, художников. Вы видите в них эпоху. Сейчас письма не пишут, люди пишут смс, причем на диком языке: что по-русски, что по-английски. Это, видимо, необратимый процесс. Что мы оставим после себя? Эти отвратительные коробки? Это меня немного смущает.
Но все равно, мне здесь хорошо. Я здесь каждый камень знаю.
Какие ваши самые любимые места в Кишиневе?
Место, где я родился и жил. Мои родители были врачами, и мы жили около мединститута. Моего дома нет, в 1977 году он разошелся пополам после землетрясения. Это был самый последний номер по улице Щусева, дальше уже — Буюканский спуск и ботанический сад. А еще очень хорошо помню: я шел с уроков, прохожу мимо краеведческого музея, и вдруг вижу в саду лань.
Я часто рассказываю: у нас во дворе было два куста сирени — белой и фиолетовой. Запах сирени для меня — запах дома. Когда я cбежал в Америку, была ностальгия, ведь я был уверен, что больше никогда не увижу Кишинев (Александр Палей не вернулся в СССР после гастролей по Италии в 1988 году — NM). Мне снились удивительные сны, мне снился запах сирени, и я всегда просыпался в слезах.
«Свобода — очень опасное понятие»
Вы говорите, что сбежали из Советского Союза: это ведь были времена, когда люди культуры и искусства не чувствовали себя полностью свободными?
Видите ли, свобода — очень опасное понятие. Надо точно определить для себя, что такое свобода. Причина моего отъезда — я много раз об этом говорил — не имела никакого отношения к политике. Но я получил образование в лучшей консерватории мира — в Москве. По сравнению с другими моими коллегами, моя жизнь не была плохой: я выезжал, я играл, играл с хорошими оркестрами и дирижерами. Но я чувствовал, что я закончусь, как музыкант. Это было болото, хотя уровень музыкальной культуры здесь был выше, чем сейчас. Местная консерватория считалась хорошей провинциальной консерваторией. Но я чувствовал, что задыхаюсь. Меня тянуло в другой мир.
Вам было страшно?
Очень. Я навсегда запомнил звук, с которым за мной захлопнулись двери американского посольства. Я понял, что должен начать жизнь с нуля. Я попал в Нью-Йорк — это сейчас мне легче изъясняться на английском, чем на русском, а тогда мой английский был очень бедным.
Сейчас тысячи деятелей культуры покинули Россию, многим из них тоже приходится начинать жизнь с нуля, интегрироваться в сообщества, ощущая при этом свою вину за происходящее. Вы чувствуете, что культурное пространство сейчас снова разрывается?
Времена ужасные, это правда. Но я говорю немного о другом, я говорю о школе, к которой принадлежу. Школа — важнейшая вещь, моих педагогов интересовало все: что я читаю, что я смотрю в театрах. По выражению Генриха Нейгауза, у музыканта должен быть фотоэлемент, который переваривает, перекладывает на музыку все впечатления, которые он получил от спектакля или книги.
Я благодарен Америке — моей стране, паспорт которой я получил — но домом она мне не стала. Это — великая страна, но мне чуждо то, что является их пониманием культуры. Однако там можно жить с любыми мнениями, это никому не мешает, это и есть свобода — в некотором смысле.
В Европе вы заканчиваете университет, и вас воспитывают человеком культурным. Вы можете быть химиком, физиком, врачом, но, если вы не читали Рабле, Шиллера, Гёте или Толстого, если вы не знаете, кто такой Чайковский, Бетховен или Рембрандт, смотреть на вас будут снисходительно. Даже если вы миллионер — может, вас будут побаиваться, но суть от этого не изменится. Цель образования — стать образованным. В Америке — по-другому, это не лучше или хуже. Они исходят из того, что количество информации огромно, знать все нельзя, поэтому они учат ориентироваться в океане информации так, чтобы выбрать правильную дорожку, и чтобы она как можно быстрее привела вас к успеху и, конечно, к большим деньгам.
И получается очень сегментированное образование?
Да, так и есть. Я встретил человека, который всю жизнь занимался рассказами Фолкнера, но не прочитал ни одного романа этого автора. То есть искусство и культура становятся чем-то утилитарным. Я не осуждаю, но это — не мое. У меня друзей в Америке практически нет, мне не о чем с ними говорить. Меня окружают хорошие люди, но, чтобы я мог с ними поговорить, как с моими лучшими друзьями в Европе — такого нет. Литература у них замечательная, но я не видел в метро читающего американца — это редчайший случай.
«9-я симфония Бетховена не имеет с Гитлером ничего общего»
А если говорить о культуре здесь и сейчас? Вот Молдова, мы все тут живем на стыке войны и мира. Люди бегут сюда от войны, они потеряли близких, свои дома. Почему культура продолжает оставаться важной? Какой у нее потенциал?
Мне друг прислал вырезку из газеты «Ленинградская правда» времен блокады. Люди умирают от голода, холод, снег, горы трупов. А в большом зале Ленинградской филармонии играют 9-ю симфонию Бетховена. Люди кутаются, музыканты играют в митенках. Понимаете, вот это для меня — культура. Потому что 9-я симфония Бетховена с Гитлером ничего общего не имеет. И это — тот символ чистоты, который должен жить в людях.
Я в это верю абсолютно. Может быть, я — человек старомодный, но я абсолютно уверен, что если что-то и спасет этот мир, то только культура. Но культура — храм, туда не каждому дозволено войти, нужно приложить усилия и быть достойным получить это разрешение. Меня вырастила моя бабушка, она была одной из основательниц публичной библиотеки, и, по ее мнению, я каждый день должен был читать. Я уже был студентом в Москве, а все еще присылал ей список прочитанных книг. Летом с мамой и отцом каждый месяц мы ездили к родственникам в Москву и в Ленинград, мы ходили в театры, музеи, а потом я должен был приехать и отчитаться бабушке, где висит, например, та или иная картина Рембрандта. Я благодарен своим родителям, моей бабушке. Между нами была удивительная духовная связь. Когда бабушка ушла из жизни, я был на Западе, и у меня в сердце осталась пустота, которая никогда не заполнится. Мне культуру прививали с детства, но в Америке я подобного не нашел.
Расскажите о ваших студентах, ведь вы до сих пор преподаете в литовском Каунасе?
Да, у меня четыре чудных студента: две девочки-литовки, один парень-армянин и еще один — мексиканец. Я люблю преподавать, потому что в их ошибках я вижу свои. Это отбирает много сил, но и они — хорошие очень. Может быть, они не так много, как мне хотелось бы, знают, но они жадные до этого, они хотят быть в этом мире. Многие мои коллеги, я замечаю, видят себя настолько талантливыми, что уже даже для музыки места не остается. Я говорю моей жене — она тоже много преподает — какая разница между нашими студентами: «Твои студенты тебя видят и говорят: „Привет, Пей Вен“. А мои студенты, во-первых, встанут, а, во-вторых, скажут: „Доброе утро, профессор“». Это как у Станиславского — театр должен начинаться с вешалки, так это и есть та самая «вешалка», с которой начинается преподавание.
А если бы вам предложили преподавать в Молдове?
Здесь катастрофическая нехватка студентов. Хорошо, что мои коллеги преподают, но, если бы я тоже пришел и начал преподавать, это было бы неэтично по отношению к коллегам. Я не верю в мастер-классы: люди приходят послушать меня, сидит ученик, которого я распинаю, а в зале — его педагог, который его учил и все ему дал. На глазах у публики происходит уничтожение педагога. С такими вещами нужно быть очень осторожным.
Я бы приезжал сюда с большим удовольствием. В Литве мне сразу предложили профессуру: все, что бы я ни попросил, все делается, ко мне там хорошее отношение, и я это очень ценю. Если буду преподавать там и здесь, то тут мне будет нужен человек, чтобы работать с учениками, пока меня нет. Я думал об этом, но вряд ли это может стать реальным. Это все непросто, консерватория переживает нелегкие времена.
Заключительный вопрос: вы регулярно выступаете в Молдове, что для вас значат эти выступления?
Я волнуюсь ужасно! Клянусь, я не кокетничаю. Здесь я каждый год «отчитываюсь» о том, что я в форме, что я расту как музыкант, и для меня этот процесс очень важен. Здесь в зале сидят люди, которые помнят мои выступления, когда я был молодым, и выступать перед ними — всегда большая ответственность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!